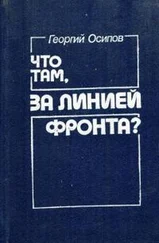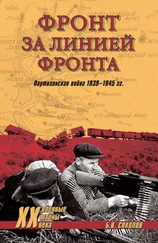— С победой, друзья!.. Как Николай?
Оба молчат. Петровна отводит глаза в сторону.
— Ну, дай-ка я поцелую тебя, — говорит, наконец, Григорий Иванович, и мы крепко обнимаемся. — А о делах в хате пойдет разговор, — добавляет он.
Петровна суетится:
— Сейчас горяченьким чайком напою, теплые носочки шерстяные наденешь и мигом от этого лютого мороза отойдешь.
Петровна торопливо уходит.
— Что с Николаем? — спрашиваю я, войдя в хату.
Григорий Иванович молча стоит передо мной, словно по глазам моим хочет понять, как ответить на мой вопрос. Я боюсь торопить его — так много суровой горечи в его пристальном взгляде.
— Умер, — вдруг резко говорит он. — Умер в тот самый вечер, когда шли на Трубчевск, — и голос его звучит отрывисто, будто сразу, одним ударом хочет он покончить с этой тяжелой вестью.
Невольно опускаюсь на лавку… Нет, не может быть…
Григорий Иванович молча ходит по комнате, а у меня перед глазами Николай — такой, каким я видел его последний раз: бледный, исхудалый, с горячими, такими живыми глазами, энергичный, жадный до жизни…
— А ты поплачь… Поплачь, Александр Николаевич…
Это Петровна неслышно села рядом со мной и с материнской лаской гладит мои волосы.
— От слез сердцу легче…
— Нет, слезами горю не поможешь, — остановившись передо мной, говорит Григорий Иванович. — Горе сразу прими, командир: по капельке-то оно еще горше будет… Слушай все до конца… Ну, так вот, в сумерках прибегает ко мне доктор. «Товарищу Пашкевичу, говорит, плохо. Надежды нет. Сабурова зовет». Я за тобой послал. А вместо тебя Петровна приехала: ты уж час назад как на Трубчевск вышел, и она не посмела вернуть… Не ругай ее, командир: государственное дело всегда впереди сердца идет.
Григорий Иванович снова ходит по комнате, словно хочет вспомнить тот вечер, не пропустить ни одной детали, но я уже не могу ждать.
— Он так и не приходил в себя? Ничего не сказал? Не передал?
— Слушай меня, Александр Николаевич, — тихо говорит Петровна. — Приехала я, а он, родимый, мечется, бредит. И все руками по одеялу ворошит, будто ищет кого-то. Я ему свою руку подала. Схватил ее, сжал. Рука полымем пышет, а сама белая-белая, без единой кровиночки, миткалевая вся. Почувствовал он человечью руку, и полегчало ему. Так ласково начал говорить. Все с Наташей разговаривал. Будто ведет ее за ручку по городу, по Ленинграду своему. Я поначалу думала — жену свою вспоминает. А потом поняла: нет, Наташа-то вроде девчоночка махонькая — то ли дочкой ему доводится, то ли сестренкой младшей. Ведет он ее по Ленинграду, а солнце заливает улицы, и он все тревожится, как бы Наташе плохо не было, как бы не напекло ее солнышко. Все шапочку уговаривает не снимать, все в какой-то сад торопится. «Там тень, Наташенька. Там я тебе сказку расскажу, песенки спою». И все торопится, торопится от солнца уйти…
— Жар у него был. Горел он весь, — вставляет Григорий Иванович.
— Вестимо, жар… Ну, а потом вроде до сада довел и успокоился. Песенку стал Наташе петь. Про какого-то кота Мордана. Ласково пел, сердечно, — другая мать так не споет. И все тише пел, все тише. Потом и совсем замолчал. Только рукой своей по моей руке тихонько проводит, будто Наташу по головке гладит. А я сижу около него, ворохнуться боюсь и ревмя реву…
— Да, настоящий был человек товарищ Пашкевич, — глухо говорит Григорий Иванович. — И твердый, и ласковый. Только ласку свою на замок запер и не больно-то часто ее показывал: весь в войну ушел…
— Пролежал он спокойненько минут этак десять, — продолжает Петровна, — и глаза открыл. Огляделся, словно не узнал ни нас, ни землянки своей. «Наташа где?» — спрашивает. Потом улыбнулся и говорит: «Сон мне приснился… Вот и хорошо, что ты, Петровна, в гости ко мне заглянула… Где Александр?» «В Трубчевск, говорю, воевать пошел». Заволновался Николай Сергеевич, помрачнел, как туча, расспрашивать начал, когда ушли и скоро ли обратно обещались. Затосковал, что товарищи его бой ведут, а он здесь лежмя лежит. Потом руками зашевелил, о кровать оперся и поднялся… Уж тут мой грех: не удержала его. Упал он снова на подушку, крикнул — видно боль его доняла — и сознание потерял. Лежит, вытянулся весь, дыхания не слышно. Только синяя жилочка на виске ходуном ходит да на лбу маленькие капельки выступили, будто водой его кто сбрызнул… Поэтому и поняла, что жив еще Николай Сергеевич…
— Как птица раненая умирал, — задумчиво говорит Григорий Иванович. — Ты видал, командир, как птица умирает? До последней минуты подняться хочет, на солнце взглянуть, крыльями взмахнуть. А крылья-то перебиты… Так и Николай Сергеевич… Орел он был. И умирал, как орел.
Читать дальше