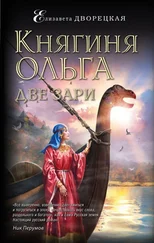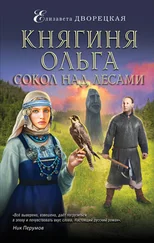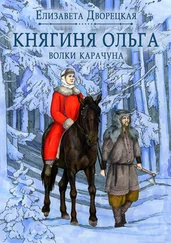Она не работала перевозчицей на реке.
Была не так уж одинока, как в летописи, а напротив, имела изрядное количество родни, как в Киеве, так и в других местах.
Она не носила ни шапку, ни царскую корону, ни бармы с каменьями.
Не строила каменных теремов и церквей.
Не закапывала людей живыми в землю, не жгла в бане и не спалила город при помощи птиц.
К ней не сватались ни князь Мал, ни византийский император.
За исключением года в Царьграде, она прожила всю свою жизнь в простой избе с маленькими волоковыми оконцами и печью по-черному (но эту печь очень искусно топили, чтобы копоть оседала строго под кровлей и не портила царьградских покрывал и расписной посуды).
Она не узурпировала власть своего сына, а разделяла с ним заботы, принимала на себя труды по управлению землями, чтобы освободить ему руки для дальних походов, брала на себя дипломатию – внешнюю и внутреннюю. Суть ее «узурпации» ясна хотя бы из того факта, что Святослав, «освободившись» от своей якобы матери-соперницы, продержался после этого всего-то года три и погиб, находясь в разладе с ближними и дальними, утратив свою землю и не сумев приобрести чужой. Но всегда будут находиться непокорные сыновья, винящие в своих неудачах маму…
Так же рассуждал и Карамзин:
«Великие Князья до времен Ольгиных воевали, она правила Государством. Уверенный в ее мудрости, Святослав и в мужеских летах своих оставлял ей, кажется, внутреннее правление, беспрестанно занимаясь войнами, которые удаляли его от столицы».
Однако Ольга на самом деле повернула Русь на новые рельсы и в общественно-административном, и в духовном смысле. Она правильно поняла свое время и те задачи, которое оно ставило перед ней, волею судьбы в такое непростое время оказавшуюся главой государства, и смогла достойно эти задачи решить. Отстояла права свои и своего ребенка с решительностью и твердостью мужчины. Древлянские казни, как мы видели, сказание и не более того. А без них какие останутся основания винить Ольгу в жестокости? Оттон Великий только после одной битвы семьсот пленных казнил, но разве жестокость составляет основу его посмертной репутации? Время было негуманное, и без соответствия законам своего времени успехов не добьешься.
То же самое объяснял читателю Сергей Соловьев: «Таково предание об Ольгиной мести: оно драгоценно для историка, потому что отражает в себе господствующие понятия времени, поставлявшие месть за убийство близкого человека священною обязанностию; видно, что и во времена составления летописи эти понятия не потеряли своей силы. При тогдашней неразвитости общественных отношений месть за родича была подвигом по преимуществу: вот почему рассказ о таком подвиге возбуждал всеобщее живое внимание и потому так свежо и украшенно сохранился в памяти народной. Общество всегда, на какой бы ступени развития оно ни стояло, питает глубокое уважение к обычаям, его охраняющим, и прославляет, как героев, тех людей, которые дают силу этим охранительным обычаям. В нашем древнем обществе в описываемую эпоху его развития обычай мести был именно этим охранительным обычаем, заменявшим правосудие; и тот, кто свято исполнял обязанность мести, являлся необходимо героем правды, и чем жесточе была месть, тем больше удовлетворения находило себе тогдашнее общество, тем больше прославляло мстителя, как достойного родича, а быть достойным родичем значило тогда, в переводе на наши понятия, быть образцовым гражданином. Вот почему в предании показывается, что месть Ольги была достойною местию. Ольга, мудрейшая из людей, прославляется именно за то, что умела изобрести достойную месть: она, говорит предание, подошла к яме, где лежали древлянские послы, и спросила их: «Нравится ли вам честь?» Те отвечали: «Ох, пуще нам Игоревой смерти!». Предание, согласно с понятиями времени, заставляет древлян оценивать поступок Ольги: «Ты хорошо умеешь мстить, наша смерть лютее Игоревой смерти». Ольга не первая женщина, которая в средневековых преданиях прославляется неумолимою мстительностию; это явление объясняется из характера женщины, равно как из значения мести в тогдашнем обществе: женщина отличается благочестием в религиозном и семейном смысле; обязанность же мести за родного человека была тогда обязанностию религиозною, обязанностию благочестия».
Во второй половине XIX века гуманистические понятия в обществе были равны нашим нынешним, и историк понимал, что нужно не только рассказать читателю о легендарных событиях, но и показать, как их правильно понимать. «Жестокости» Ольги были «обязанностью благочестия» по понятиям ее времени; подвигом защиты традиций, героизмом правды; делали ее «образцовой гражданкой»; и то, что она женщина, только усиливало ее обязанность быть хранительницей обычая. Но увы, здесь произошло то же, что с трудом Карамзина: событийная сторона легенды была усвоена, ее смысл – нет.
Читать дальше
![Елизавета Дворецкая Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] обложка книги](/books/398429/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-plameneyuchij-mif-cover.webp)
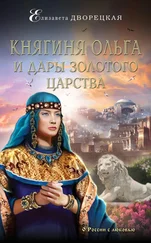

![Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Сокол над лесами [litres]](/books/410452/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-sokol-nad-lesam-thumb.webp)