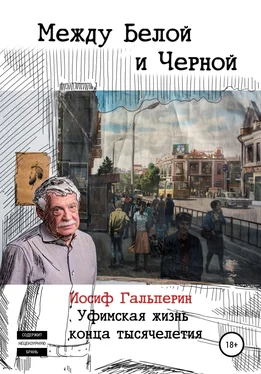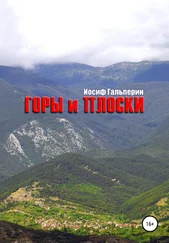После этого я забыл молодые страхи, думать забыл, что умирание может быть физиологически противно самому, непрезентабельно выглядеть в глазах свидетелей, что боль заставит потерять лицо. Перемотав пленку памяти, по-другому стал видеть и смерти близких стариков: деда, бабушки, тети Сони. Понял и принял их стоицизм, глубину их фатализма, пусть и не всегда опиравшегося на помощь религии. Кажется, всем им в последнюю минуту помогала избежать отчаяния пустоты семья – ее хлопоты, само ее присутствие. Мать до конца были атеисткой, отец по крайней мере не прибегал к ритуалам, даже когда окончательно разуверился в коммунистических идолах и перестал отвергать мысль о боге.
Этой мыслью я пытался поддержать Сашу. Я раньше него узнал правду о диагнозе, отсчитывал месяцы и радовался их добавке, а он сперва не хотел верить очевидному, худел и желтел. Я писал для него не самые утешительные стихи, маскируя их под полуабстрактные образы: «выполнил земное постиженье – к небу поступай в ученики». Прилетел к нему в Уфу за пару недель до конца, мы и в «раковом корпусе», как всегда, прошлись в разговоре по всему фронту – от литсобытий до политики, от успехов детей до цен на продукты. Он поднял свои ставшие вдруг яркими глаза – и я, оторвав взгляды от его рук, превратившихся в палки, от катетера в животе, увидел несгибаемую силу жить до последней капли, вздрогнул, ощутив уровень мужества Касымова.
Такому не научишься, это надо скопить за душой. Это как переход через казавшуюся недостижимой грань таланта. Своих сегодняшних сил здесь может не хватить, разговоры не помогут, книжки тоже. Наверное, надо собрать все ночные мысли, замыслы, радость от их исполнения, горечь от их несбыточности, опоздавшее презрение к собственной лени. Вернуть все, что, казалось, разбазарил. И через сердце пустить по кругу кровообращения, чтобы уже ни на секунду не терять. До конца.
Впрочем, все-таки, учиться тоже можно. Учимся же мы, глядя на близких, даже когда нам не нравится что-то в их привычках – учимся «от противного». Боишься оказаться в их ситуации таким же. Как дед, скупым. И замечаешь за собой экономию жидкого мыла на кухне, никак не вызванную дедовой нищетой, в которой он прожил две трети жизни. И вдруг понимаешь, что внутренне, сам с собой, ты упрекаешь кого-то, как мать, своими благодеяниями. Или, наоборот, с усмешкой видишь себя прекраснодушным, как отец.
Страшно оказаться из-за своей лени безалаберным. Чего-то важного не понимающим, что видно всем вокруг, а ты, идиот, не замечаешь. Или путающим мелочь, частное, с большим общим целым. Боишься самообмана, самооправдания, переоценки. И не только потому, что это может плохо выглядеть со стороны (как ты это сейчас примечаешь за другими!), но и потому, что за душевную лень, невнимательность может покарать судьба.
Когда видишь чьи-то плохие качества, возникает страх-присматривание. Ведь журналистское, репортерское: «Если так может другой, значит, и я смогу!» способно обернуться снижающей фразой «Все мы люди…». Значит, и я способен струсить, продать, предать. Быть злым. И находишь в себе основание этому.
Сестра Ленка маленькая была неуправляемой. Скакала на диване, казалось, – часами, крича: «Пи-си-ми, пи-си-ми!», мы потом поняли, что словечко это означало «почему». Юный исследователь. И позже она меня иногда раздражала упрямым и долгим несовпадением настроений. Стою на крыльце подъезда, мне хочется бежать к ребятам, а она карабкается по скользким ступенькам и никуда идти от них не хочет. Присматривай тут за ней, чтоб не упала… И я толкнул ее, маленькую, с барьера крыльца! Она ударилась об лед головой. Как я потом боялся! Не только того, что из-за меня она будет теперь болеть, не только собственной внезапной злобы, это был страх перед нравственным осуждением: вдруг узнают, что у меня было внутри в ту минуту…
Осуществления многих страхов я уже избежал – по возрасту. Зато сохранил способность сострадать, которая подчас вымораживает страдание собственное. И осталась, уже холодная, привычка искать заранее дурные признаки, дурные предзнаменования – про запас. Чтобы потом сказать: я это предчувствовал!
Боясь будущего, я боюсь возможностей, но не считаю вероятностей. После аварии с первой машиной, когда только подрамник и толстое железо старого «Пежо» спасли всех нас и, в первую очередь, Любу от серьезных травм, я временами впадаю в мгновенную панику. Еще не выезжая со стоянки! Или сижу за рулем в пробке и вдруг теряю реальность – где это я? куда еду?
Читать дальше