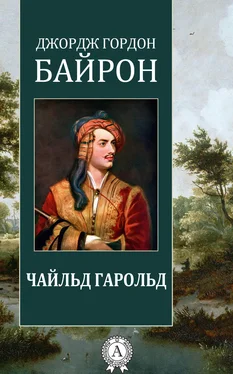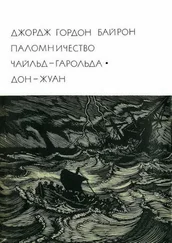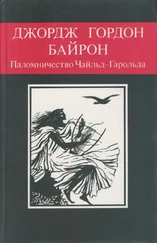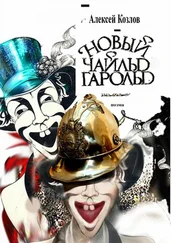Карл Смелый был разбит швейцарцами при Морате, 22 июня 1476 г. «Предполагают, что в этом сражении было убито более 20,000 бургундцев. Чтобы избежать появления моровой язвы, сначала тела их были зарыты в могилы; но девять лет спустя кости были выкопаны и сложены в особом здании на берегу озера, близ деревни Мейрие. В течение трех следующих столетий это хранилище несколько раз перестраивалось. В конце XVIII века, когда войска францусской республики заняли Швейцарию, один полк, состоявший главным образом из бургундцев, желая загладить оскорбление, нанесенное их предкам, разрушил «дом костей» в Морате, кости закопал в землю, а на могиле посадил «дерево свободы». Но это дерево не пустило корней, дожди размыли землю, кости опять показались на свет и лежали, белея на солнце, целую четверть века. Путешественники останавливались здесь, чтобы поглядеть, пофилософствовать и что-нибудь стащить; почтальоны и поэты уносили черепа и берцовые кости. Наконец, в 1822 г. все остатки были собраны и вновь похоронены, и над ними поставлен простой мраморный обелиск». («История Карла Смелого», Керка, 1858).
Байрон указывает этими стихами, что при Морате швейцарцы бились за славное дело – за защиту своей республики против нашествия иноземного тирана, между тем как жизнь людей, павших при Каннах и Ватерлоо, была принесена в жертву честолюбию соперничавших между собою государств, боровшихся за господство, т. е. за порабощение людей.
«Авентикум, близ Мората, был римской столицей Гельвеции – там, где теперь стоит Аванш». (Прим. Байрона).
Аванш (Вифлисбург) находится прямо к югу от Моратского озера и милях в пяти на восток от Невшательского. Будучи римской колонией, он назывался Риа Flavia Constans Emerita и ок. 70 г. до Р. Хр. имел 60,000 жителей. Он был разрушен сперва аллеманами, а потом Аттилою. «Император Веспасиан, сын одного банкира из этого города», – говорит Светоний, – «окружил город толстыми стенами, защитил его полукруглыми башнями, украсил капитолием, театром, форумом и даровал ему право суда над лежавшими вне его пригородами». В настоящее время на месте забытых улиц Авентикума находятся табачные плантации, и только одинокая коринфская колонна с остатком разрушенной арки напоминает о прежнем величии.
«Юлия Альпинула, молодая авентская жрица, умерла вскоре после тщетной попытки спасти своего отца, осужденного Авлом Цециной на смерть за измену. Ее эпитафия была открыта много лет тому назад. Вот она: «Julia Alpinula: hic jaceo. Infelicis patris infelix proies. Deae Aventiae sacerdos. Exorare patris necem non potui: male mori infatis illi erat. Vоxi annos XXIII». Я не знаю человеческого сочинения более трогательного, чем это, а также не знаю и истории, полной более глубокого интереса. Вот имена и поступки, которые не должны забываться и к которым мы обращаемся с искренним и здоровым сочувствием после жалких мишурных подробностей целой кучи завоеваний и сражений, которые на время возбуждают ум ложною, лихорадочною симпатиею, а затем ведут его ко всем тошнотворным последствиям такого отравления». (Прим. Байрона).
Восстание гельветов, вызванное грабительством одного из римских легионов, было быстро подавлено полководцем Авлом Цециной. Авентикум сдался (69 г. до Р. Хр.), и Юлий Альпин, начальник города и предполагаемый глава восстания, был казнен. (Тацит, Ист. I, 67, 68». Что касается Юлии Альпинулы и ее эпитафии, то они были удачным изобретением одного ученого XVI века. Лорд Стэнгоп говорит, что «по всей вероятности, эта эпитафия была доставлена неким Паулем Вильгельмом, заведомым подделывателем (falsarius), Липсиусу, а последним передана Грутерусу. Никто ни раньше, ни позже Вильгельма не уверял, что видел этот надгробный камень; равным образом, история ничего не знает ни о сыне, ни о дочери Юлия Альпина».
«Это писано в виду Монблана (3 июня 1816), который даже и на этом расстоянии поражает меня (20 июля). Сегодня я в продолжение некоторого времени наблюдал отчетливое отражение Монблана и Аржантьера в спокойном озере, через которое я переправлялся в лодке; расстояние от этих гор до зеркала составляет шестьдесят миль». (Прим. Байрона).
Байрон, преследуемый английскими туристами и сплетниками, уединился (10 июня) в вилле Диодати; но преследователи все-таки старались вознаградить себя, подстерегая его на дороге или направляя телескопы на его балкон, возвышавшийся над озером, и на пригорки, покрытые виноградником, где он сиживал. Возможно также, что для него тягостно было и сожительство с Шелли, – и он искал случая остаться наедине, лицом к лицу с природой. Но и природа оказывалась не в состоянии исцелить его потрясенные нервы. После своей второй поездки вокруг Женевского озера (29 сент. 1816) он писал: «Ни музыка пастуха, ни треск лавин, ни горные потоки, ни горы, ни ледники, ни лес, ни тучи ни на минуту не облегчили тяжести, которая лежит у меня на сердце, и не дали мне возможности позабыть о моей жалкой личности среди величия, могущества и славы окружавшей меня природы». Может быть, Уордсворт имел в виду это признание, сочиняя, в 1831 г., свое стихотворение: «Не в светлые мгновенья бытия», в котором следующие строки, как он сам говорит, «навеяны характером лорда Байрона, как он мне представлялся, и характером других его современников, писавших под аналогичными влияниями».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу