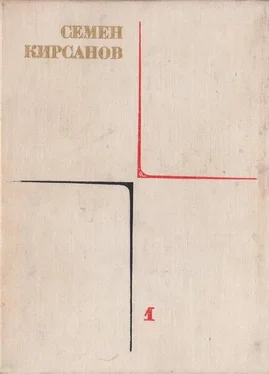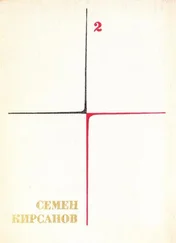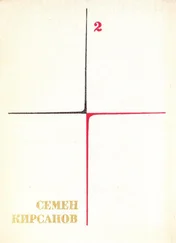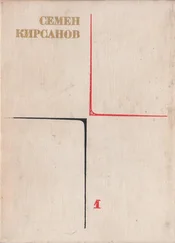Вот —
Смольный институт…
Под меловым карнизом
уж сорок лет
идут
столетья коммунизма.
И тут стоял Джон Рид.
И, кажется,
опять он.
Блокнот его открыт.
Октябрь
ему понятен.
Понятен дым костров,
понятен каждый митинг,
и Ленин —
с первых слов
понятен,
вы поймите,
американцы!
Джон
нас понял с полувзгляда.
Такими вот,
как он,
вам бы гордиться надо!
По-летнему
раскрыт
его рубашки ворот;
сквозь патрули
Джон Рид
проходит через город.
Толпою
Летний сад
заполнен до обочин.
Садится
самосад
он покурить с рабочим.
А рядом крик с трибун:
— Спасите Русь
от хама!
Встал
большевицкий гунн! —
ораторствует дама.
Через плечо пальто
и в Смольный,
там — горнило.
Рид разобрался:
кто
Керенский, кто Корнилов…
Америка!
Твой сын
нас понял с полувзгляда.
Таким —
как он один —
тебе гордиться надо!
Впервые
в равелин
до камеры конечной
министров провели…
Насилие?
Конечно!
Буржуев гонят вниз
ко всем чертям
собачьим!
Но так начнется жизнь,
лишь так,
и не иначе.
С насилия!
С атак!
С дыр в красоте ампира!
Начнется
только так
будущее мира.
Так думал и Джон Рид,
слагая
строки скорые;
блокнот его раскрыт
на первых днях
истории.
Америка!
Твой сын
не подкачал, не выдал.
Из-за
штыкастых спин
он солнце мира видел!
Что может быть ценней
души,
не знавшей фальши?
А наши
Десять Дней
мир потрясают
дальше!
Здесь
каждый вход,
и свод,
и колоннады зданий,
и в римских цифрах год
напоминают
ход
судебных заседаний.
Да, Ленинград — судья,
чье слово
непреклонно.
Он судит, не щадя.
Строг Невский,
как статья
Верховного закона.
По пунктам
разобрав
процесс борьбы жестокой,
он рассудил,
кто прав, —
издольщик
или граф,
заводчик
или токарь.
И он был прав,
когда
был грозен,
осажденный,
в дни
голода и льда;
и от его суда
не скрылся осужденный.
Нельзя
прийти лжецом
к колоннам Ленинграда,
ни трусом,
ни льстецом!
Перед его лицом
во всем
признаться надо.
И я пришел,
и встал,
и все по форме сделал;
прошнуровал
и сдал,
чтоб он перелистал
мое с тобою
«Дело».
Вот первый лист
любви
и правды светлоглазой;
и здесь
не покривил
ни помыслом, ни фразой.
А это
лист второй.
Он розов и надушен.
Но, как жучок
порой
ютится под корой, —
жизнь точит
равнодушье.
Но вот и третья часть…
Как может быть
оправдан
позволивший подпасть
себе
и ей под власть
к проклятым полуправдам?
И дальше —
как ни тщусь
я вырваться из круга
обманных глаз и уст, —
осталась
кража чувств
взаимно, друг у друга.
Итак,
суди, судья,
с заката до рассвета,
суди
по всем статьям,
по всей длине проспекта.
Воздай
и ей и мне
за соучастье в краже,
суди,
поставь к стене
объятья наши даже.
Ведь был же нам знаком
твой кодекс
непреложный!
Пусть действует закон:
лжи
место под замком.
Жить
только правдой можно.
О, Ленинград,
не зря
пришел я с делом личным!
Быть мелкими
нельзя
перед твоим величьем.
Когда под бой часов
страна
ко сну отходит,
с перрона в 0 часов
«Стрела»
в Москву отходит.
И в тот же час,
подряд
вагоны выдвигая,
навстречу,
в Ленинград,
спешит «Стрела» другая.
И разные чуть-чуть
два близнеца-вокзала,
держа в руках
весь путь,
стоят,
с толпою в залах.
Среди лесов страны
звуча колесной речью,
несутся
две «Стрелы»,
как две любви,
навстречу.
В Москву и в Ленинград —
две встречи,
две разлуки,
двух ожидании взгляд,
двух расставании руки.
Но могут же, летя
то в соснах,
то в березах,
на пять минут хотя б
сойтись
два паровоза!
В Клину ли,
в Бологом,
хоть на каком разъезде,
хоть постоять
вдвоем,
хоть прогуляться вместе…
Читать дальше