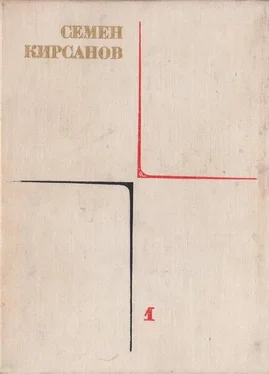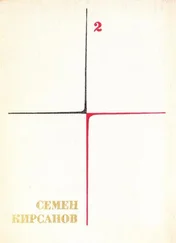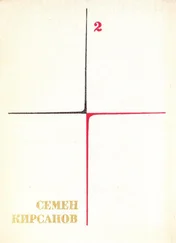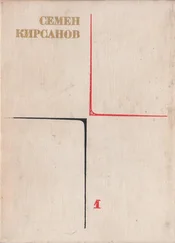И опять никого нет,
звезды падают с крон,
скрипка больше не стонет,
не ворчит саксофон.
Ночь на острове Маргит,
сон кленовых вершин,
спят новейшие марки
иностранных машин.
Ни шагов, ни оркестра.
Глухо в сердце моем.
Вот —
еще одно место
здесь, на шаре земном.
Мне на свете нужна
только в гору тропа!
Даль чиста и нежна.
Лоз венгерских толпа.
Пусть она и крута,
вьется к небу, кружа, —
здесь не норка крота,
не пещерка ужа.
Здесь найдется и стол,
грубо сложенный дом,
виноградарь простой
с опаленным лицом.
Без ухода — цветы,
без наклейки — вино.
Вот такой высоты
я заждался давно.
Взоры сельских невест
отражать суждено, —
в доме зеркало есть,
в форме сердца оно.
Видно, правда одна
в этом доме в цене,
что как сердце она
здесь, на белой стене.
Я смотрю на оклад
в голубых васильках;
долго ищет мой взгляд
седины на висках.
Нет, воронье крыло
мне на брови легло,
и два карих огня
вместо глаз у меня!
Чем-то детским мои
обновились черты,
словно стерты слои
всей былой суеты.
В душу смотрит светло
свет прозрачных глубин,
будто знает стекло,
что любил, кем любим;
будто знает, что есть
что-то в сердце моем;
будто добрая весть
отражается в нем.
Много видел я гор,
где бродил, где искал,
но таких до сих пор
не встречалось зеркал!
В форме сердца оно,
в душу смотрит оно!
Наливай же в стакан,
виноградарь, вино!
Режь садовым ножом
лук, пахучий до слез.
Здесь нашелся и дом,
здесь и сердце нашлось.
Даль чиста и нежна.
Лоз венгерских толпа.
Мне на свете нужна
только в гору тропа!
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕТРАДЬ (1957–1960)
Как Петербург глубок!
Он Пушкин,
он Жуковский.
Он Лермонтов,
он Блок,
он ранний Маяковский.
Он Врубель.
Холст его
павлинами заляпан.
Он Горький.
У него
в гостях сидит Шаляпин.
И он же —
чуть заря —
задумчив и нахмурен.
А мысль — «убить царя»
сверлит, —
и он Халтурин.
Не статуи в садах,
не пики,
не гробницы.
Он человек всегда —
он Пирогов
в больнице.
Он Алексеев Петр.
Его хватают,
судят.
Он на суде встает
с пророчеством —
что будет!
Он — отдаленный гул
толп
с Выборгской и Охты.
Он — прачка на снегу,
кровь льется
из-под кофты.
И с прищуром
на свет
уже как Ленин глянув,
он молодой студент
за книгою —
Ульянов.
Он трудится на весь
рабочий мир
огромный —
в Большом Казачьем,
здесь,
в музейном этом доме,
где черновик
борьбы,
где корректуры правка,
где Петербург — и был
как в будущее
явка.
А в будущем — не сон,
а штурмом
взятый Зимний.
Красногвардеец он,
бессмертный
и без имени.
Седой от всех потерь
он человек,
но вечен.
Он Ленинград теперь —
строг,
прост
и человечен.
Когда
перед звездой,
мерцающею скупо,
чернеет
золотой
Исаакиевский купол
и властвуют
одни
кронштейны с фонарями, —
я выхожу
к Неве,
к дворцовой панораме…
Но
пушкинской строфой
тут все уже воспето:
громады
темные
вдоль Невского проспекта,
тень
золотой иглы,
секиры на ограде…
И что
сказать еще
о спящем Ленинграде?
На Троицком мосту
он виден в небе мглистом,
как прошлого
корабль,
как будущего
пристань…
Что город думает?
О чем его забота?
Как сон?
Как дышит грудь
Балтийского завода?
О чем задумались
четыре
исполина,
что держат Эрмитаж
на онемевших
спинах?
О белой женщине
на набережной сонной,
сидящей
под ночной
ростральною колонной?
Что Невский говорит,
кварталы
удлиняя?
Не снится ли ему
Дорога
Ледяная?
Растаяла?..
Но сон
тревожит мостовую —
проспекту
не забыть
подругу фронтовую…
А не болят ли в ночь
под вывеской
нарядов
заделанные швы
пробоин
от снарядов?
Читать дальше