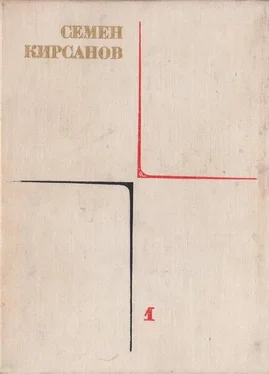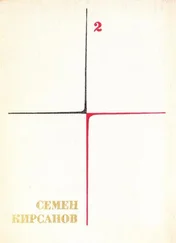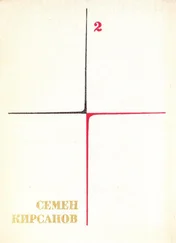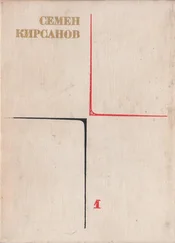Но строг маршрут,
и мы должны
принять культуры порцию,
взирать
на древние ножны,
на Цезаря, на Порцию,
спешить к гостинице в обед,
смотреть
сквозь окна влажные
на отдалившийся хребет,
на чудеса
пейзажные.
Пейзаж равнинней и ровней,
и, как удар
по струнам,
под нами мост и в стороне —
дуга воды —
лагуна!
И вот
к гондолам нас ведут,
лагуною обглоданным.
Гондолы
называют тут
по-итальянски —
«го́ндолы».
Мы сели в го́ндолу,
и вот
толчок, —
и по инерции
навстречу с двух сторон плывет
Большой
канал
Венеции.
Вздымает вверх
скрипичный гриф
ладья резного дерева;
держусь за бронзу
львиных грив —
беда для сердца нервного.
Наклонно
гондольер
стоит —
артист своей профессии.
Не декорации ль свои
театры
здесь развесили?
Плывет галерка
мимо нас
в три яруса
и ложи.
Как зал театра,
накренясь,
плывет Палаццо дожей.
Все задники
известных пьес
и Гоцци и Гольдони
мы,
проплывая,
видим здесь,
качаясь на гондо́ле.
На этих пьесах
я бывал
как друг одной актрисы…
Вплываем
в боковой канал,
как ходят за кулисы.
А между двух старинных стен
объедки,
в кучу смятые;
на них торжественная тень
какой-то дивной статуи.
Затем
ступеньки лижет плеск,
и пристань волны о́блили, —
сюда бы шляпы, бархат, блеск
в глазах
надменных Нобилей.
Но там —
в беретах пареньки,
бровасты и румяны,
стоят,
засунув кулаки
в бездонные карманы.
Они б их вынули,
когда б
подобрала́сь работа —
кули таскать бы
на корабль,
сгружать товары с бо́рта.
И вдруг,
когда мы рядом шли,
к стене почти прижатые,
причину пареньки нашли,
чтоб вынуть
руки сжатые.
И мы увидели салют,
известный всем рабочим,
а дальше
новые встают
палаццо, между прочим.
Мир голубей
покрыл квадрат
камней святого Марка.
Брожу я с самого утра
от арок
к новым аркам.
И вот кофейня
«Флориан»,
и вспомнить ты успеешь,
что здесь
садился на диван
синьор Адам Мицкевич
смотреть
на разноцветный грим
и ленты карнавала…
Чего ж,
о польский пилигрим,
тебе недоставало?
Недоставало с вышины
холмов
смотреть на села?
Недоставало тишины
далекого костела?
Хоть тут
и небо голубей,
и в лавках звон богатства, —
хотелось
этих голубей
послать на Старе Място…
Рука поэта
оперлась
на темно-красный бархат.
Вокруг
Венеция неслась
на карнавальных барках.
Помпоны,
длинные носы,
арлекинады краски
и фантастической красы
ресницы
из-под маски.
Но вспоминает он корчму,
где,
по цимбалам грянув,
мой прадед раскрывал ему
страну
Ядвиг и Янов,
где ураганный этот звон
остался жить
в «Тадеуше»,
и потому
не смотрит он
на чернокудрых девушек,
на золотого,
в звездах льва,
и в бархатной неволе
он шепчет про себя слова
тоски,
обиды,
боли.
Я в шесть часов утра
шел
утренней Венецией.
Сырой туман устлал
серебряный венец ее.
И кампанилы стан
тянулся
в небо млечное,
одел ее туман,
как платье подвенечное.
Из сводчатых ворот
по уличке Спаддариа
шел
заспанный народ
в сиреневое марево.
Шел, думая про стол,
шел с брюками опухшими,
вперед,
не глядя,
шел,
шел с головой опущенной.
Шел, ящики неся
в тратто́рию,
к хозяину,
шел, зная,
спать нельзя,
и не заснуть
нельзя ему.
На солнечных часах
еще и тени не было,
и сырость,
как роса,
закрыться шарфом требовала.
Ночные дамы шли,
с недо́сыпа осипшие,
металл
незвонких лир
в свои карманы ссыпавши.
Шла бедность,
шла нужда
на полдороге к голоду,
которой не нужна
экскурсия по городу.
А с каменных перил
смотрели
птичьи головы:
то, в пух своих перин
уткнувшись,
спали голуби.
На них садился снег,
как пух,
еще не узнанный
являлись к ним во сне
кулечки кукурузные.
Читать дальше