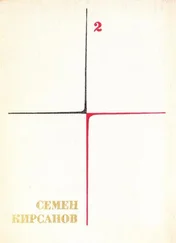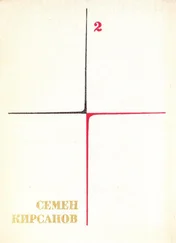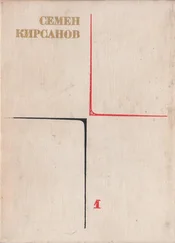вот и века прошли,
земной окутав глобус.
…Ну вот, и мы сошли,
покинув наш автобус.
Калужское шоссе,
волнистая равнина,
тебя — в иной красе
как не любить ревниво!
И вас — как не любить,
седые деревеньки!
Вы скоро, может быть,
исчезнете навеки…
Уже покрыл бетон
дороги подъездные,
снимаются с окон
наличники резные.
И сколько снято крыш
строителями — за год!
В былую глушь и тишь
ворвался Юго-Запад.
И жаль, и хорошо!
Пора прощаться с солнцем,
последний петушок
над слуховым оконцем,
прощай, ты никогда
навстречу к нам не выйдешь
и новые года
вовеки не увидишь!
Зарылся в давний снег
возок Екатерины,
иным идет к весне
калужский путь старинный.
И там, где Теплый Стан,
уже стоят пролеты
огромного моста
и реют вертолеты,
а правнучка тех баб —
с голубизной в ресницах —
врезается в ухаб
железною десницей.
По десять этажей
сюда, попарно строясь,
дома идут уже,
как в будущее — поезд!
И около леска
иного, молодого —
написано: «Москва».
Все заново, все ново!
Еще не опален
пожаром близкой брани —
сидит
Наполеон
на белом барабане,
обводит лес и луг
и фронт
перед собою
созданием наук —
подзорного трубою.
На корсиканский глаз
зачес
спадает с плеши.
Он видит в первый раз
Багратиона флеши.
Пред ним театр войны,
а в глубине театра —
Раевского
видны
редуты, пушки, ядра…
И, круглая, видна,
как сирота,
Россия —
огромна и бедна,
богата и бессильна.
И, как всегда, одна
стоит,
добра не зная,
села Бородина
крестьянка крепостная…
Далекие валы
обводит
император,
а на древках — орлы
как маршалы
пернатых,
и на квадратах карт
прочерчен путь победный.
Что ж видит
Бонапарт
своей трубою медной?
Вот пики,
вот флажок
усатых кирасиров…
В оптический кружок
вместилась ли
Россия?
Вот, по избе скользя,
прошелся, дым увидев…
А видит он
глаза,
что устремил Давыдов?
Верста,
еще верста,
крест на часовне сирой…
А видит он
сердца
сквозь русские мундиры?
Он водит не спеша
рукою в позументах…
И что ж?
Ему душа
Кутузова — заметна?
Вот новый поворот
его трубы блестящей.
А с вилами
народ
в лесной он видит чаще?
Сей окуляр таков,
что весь пейзаж усвоен!
А красных
петухов
он видит над Москвою?
А березинский снег?
А котелки пустые
А будущее
всех
идущих на Россию
он видит?
Ничего
не видит император.
Он маршалов
зовет
с улыбкой, им приятной.
Что, маршалы?
В стогах
не разобрались?
Слепы?
Запомните — в снегах
возникнут ваши склепы!
Биноклей ложный блеск —
в них не глаза,
а бельма!
Что мог поведать Цейс
фельдмаршалам Вильгельма?
О, ложь стереотруб!
Чем Гитлер
им обязан?
Что — он проникнул в глубь
России
трупным глазом?
Вот —
землю обхватив
орбитой потаенной,
глазеет
объектив
на спутнике-шпионе, —
но, как ни пяльтесь вы,
то, чем сильна Россия, —
к родной земле
любви
вы разглядеть не в силах!
Взгляните же назад:
предгрозьем
день наполнен,
орлы взлететь грозят
над Бородинским полем.
С трубой Наполеон
сидит
на барабане,
еще не опален
пожаром близкой брани.
Я — набережных
друг.
Я начал жизнь и детство
там,
где витает Дюк
над лестницей Одесской.
А позже
я узнал
в венецианских арках,
как плещется
канал
у свай святого Марка.
У Темзы
я смотрел
на утренний и мутный
парламент,
в сотнях стрел,
в туманном перламутре.
В душе
всегда жива
у лап гранитных сфинкса
суровая
Нева,
где я с бедою свыкся…
Но если
хочешь ты
в потоке дел столичных
отвлечься
от тщеты
своих терзаний личных —
иди
к Москве-реке
дворами, среди зданий,
и встань
невдалеке,
между двумя мостами.
Читать дальше