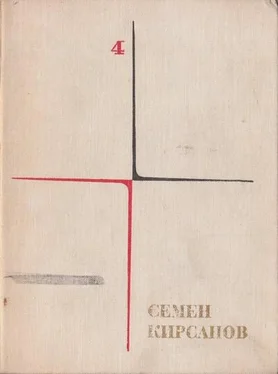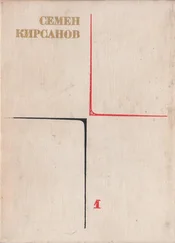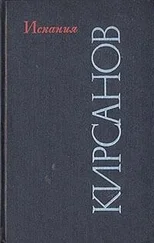И пока
самолет орет
турбодвигателями всесильными —
распластавшись внизу,
орел
кордильерствует над вершинами.
А по каменным
их краям,
скалы бурной водой окатывая,
океанствует
океан,
опоясав себя экватором.
Горизонствует
горизонт,
паруса провожая стаями.
Гарнизон,
где жил Робинзон,
остается необитаемым.
И пока на аэропорт
по кругам
самолет снижается —
книга детства в душе поет
и, как сладкий сон,
продолжается.
Початок золота и маиса —
Вальпараисо, Вальпараисо,
спиною к Андам,
лицом к воде —
тебя я видел,
но где, но где?
Вальпараисо, Вальпараисо!
А может быть,
я и здесь родился?
где пахнет устрица,
рыба,
краб,
где многотонный стоит корабль?
А может быть,
я родился дважды,
у Черноморья (как знает каждый
и также здесь,
у бегущих вниз
домов — карнизами на карниз?
Вальпараисо, Вальпараисо,
ты переулками вниз струишься,
за крышей крыша,
к морской воде,
тебя я видел
и помню — где.
Тюк подымает
десница крана —
Одесса Тихого океана.
Взбегает грузчик,
лицо в муке,
моряк за стойкою в кабаке.
Все так привычно,
все так знакомо,
а может, я не вдали,
а дома?
Пора рыбачить,
пора нырять,
и находить
и опять терять…
Но на таинственный
остров Пасхи
глядят покрытые медью маски,
и странно смотрит
сквозь океан
носатый каменный истукан.
И черноморский скалистый берег,
и побережия
двух Америк,
и берег Беринговый нагой —
все продолжают
один другой.
Вальпараисо, Вальпараисо!
О, пряность мидий
в тарелке риса,
о, рыб чешуйчатые бока,
о, танец
с девушкой рыбака!
И в загорелых руках гитара,
и общий танец
Земного шара,
и андалузско-индейский взор
в едином танце
морей и гор!
Никаких описаний,
никаких дневников!
Только плыть небесами
и не знать
никого.
И не думать, что где-то
видел это лицо —
коммерсантов,
агентов,
дипломатов,
дельцов.
Плыть
простором ливийским
сквозь закат и рассвет,
пока пьет свое виски
полуспящий сосед.
Незнакомым простором
над песками пустынь
рядом с ревом моторов
плыть
с карманом пустым.
И глядеть —
без желаний,
в пустоте синевы
на пустыню,
где ланей
ждут голодные львы.
А желать,
только чтобы
шли быстрее часы
и к асфальтовым тропам
прикоснулось шасси.
И вернуться, вернуться,
возвратиться
скорей
к полосе среднерусской,
к новой
песне своей.
О бьющихся на окнах бабочках
подумал я, что разобьются,
но долетят и сядут набожно
на голубую розу блюдца.
Стучит в стекло.
Не отступается,
но как бы молит, чтоб открыли.
И глаз павлиний осыпается
с печальных,
врубелевских крыльев.
Она уверена воистину
с таинственностью чисто женской,
что только там — цветок, единственный,
способный подарить блаженство.
Храня бесстрастие свое,
цветок печатный безучастен
к ее обманчивому счастью,
к блаженству ложному ее.
Над Калужским шоссе
провода
телеграфные
и телефонные.
Их натянутость,
их прямота
благодарностью
птиц переполнила.
Птицы к линиям
мчатся прямым
и считают,
щебеча на роздыхе,
будто люди
устроили им
остановки
для отдыха в воздухе.
И особенно хочется
сесть
на фарфоровые
изоляторы,
по которым
протянута сеть, —
от вечерней зари
розоватые.
Но случается
вспышка и смерть, —
птицы
с провода
падают мертвые…
Виновата
небесная твердь,
где коварно
упрятались молнии.
Люди здесь
вообще ни при чем,
так как видела
стая грачиная
человека
над мертвым грачом
с выраженьем в глазах
огорчения.
Когда капитану Немо
приелось
синее небо —
он в лодке
с командой верной
уплыл в роман Жюля Верна.
Он бродит
в подводных гротах,
куда не доходит грохот
ни города,
ни паровоза,
в водорослях Саргоссы.
Читать дальше