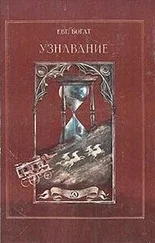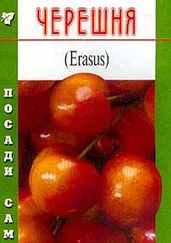Как пропеть успевает дрожащий её голосок
невозможную песенку, шлягер юродивых бедствий,
как мы слепо доверились этой мелодии с детства,
как покорно танцуем безумье отпущенный срок.
«Зловещий свет перед грозой…»
Зловещий свет перед грозой,
так тихо-жутко, что и ветра нет.
Чей дух, обидчивый и злой,
на собственную немощь сетует?
Прокатывает дальний гром.
Деревья, вздрагивая листьями,
нас заклинают языком
пророков, чудотворцев, мистиков.
И, понимать не смея их,
мы проникаемся смятением…
Но вот, промчал последний вихрь,
открылся ливень ровным пением.
Разверзлись хляби в небесах,
взорвались лужи дробной россыпью,
и в нас раскрылся лёгкий взмах,
с нестрашной осыпью…
И мы вникаем в эту брызнь,
в её необходимость вылиться,
как проживаем нашу жизнь
при видимой её бессмыслице.
«Любимая, любимая, любая…»
Любимая, любимая, любая,
какой обман твой несравненный свет!
Пузырь земли, нелепая, живая,
инстинкта нечленораздельный бред.
Как насекомое, мучительно влипая
в смолу, узором станет в янтаре,
так сила бестелесная, слепая,
вдруг женщиной хохочет во дворе…
«мне нечего сказать тебе…»
окно прохожее распахивает профиль,
старухи любопытствующей профиль,
сидящей под бульдоговым буфетом, —
тень веток полосует ей лицо.
мне нечего, мне нечего сказать,
но комната вытягивает душу
знакомыми обоями, людьми,
привычным запахом и видом из окна…
мы звери тихие, домашние мы звери,
нам разум дан, чтоб горе горевать
и понимать, что некуда идти,
и комната тебя переживёт.
я задыхаюсь, нечего сказать
под стук подносов, грузный дух столовой:
кефир и булочка, и лысина лица,
и горе пьяницы над пролитым портвейном, —
вот живопись, подвластная любому,
кто видит свет и тень, и их размывы
на грязном фартуке раздатчицы дородной,
что ловко поднимает свой черпак.
мне нечего сказать тебе, прощай,
вот только здесь пройдёмся напоследок
по гнутым мостикам, читающим названья
каналов разных, а вода одна —
болотом пахнет да огни полощет,
и принимает колкости дождя,
а мы о пустяках проговорим,
позволив себе роскошь не заметить…
1
…и вот опять идут простые дни
без рифмы и размера. Очень рано
встаю, готовлю чай и умываюсь…
Какой покой в обыденных словах,
написанных на следующий вечер,
когда от света – еле видный след,
зажившая царапина, но утром
те пять минут, когда привычка жить
ещё не обрела привычной власти, —
вся чернота холодной зимней ночи
да две полоски света на стене
от окон, где проснулись часом раньше, —
вот всё, что есть, помимо горечи душевной,
столь беспричинной и несоразмерной,
что удивлённый и чужой следишь,
как тело медленно встаёт и суетится,
и ставит чай, и прячется в одежду,
и всё затем, чтоб не успел додумать
простую мысль: тебе дарован день,
ты – избранный сосуд в каком-то смысле,
но смысл и цель настолько далеки
от ежеутреннего сонного похмелья,
от сложенных в бессилье длинных рук,
от коридора тесного, в котором,
уже в дверях опомнившись, не верю:
и это я в шатающемся теле?
2
Весёлый мальчик, ты пришёл за мной, —
смешинка съедена, и щёки распирает,
ты, как всегда, некстати, вертопрах,
я нахожусь на службе, ergo занят
серьёзной чепухой; кругом сидят
живые равновесья благ и тягот,
они насуплены и вряд ли одобряют
твою беспечность, впрочем, ты упрям,
к тому же, мне на улицу пора,
ты это знаешь и мостишься сбоку,
и стоит зазеваться, как прильнув,
сливаешься со мной, вот новым взглядом,
уже твоим гляжу на всё вокруг:
дома разбросаны, негреющее солнце
им отмеряет тень и строит их в шеренги,
машины ждут толпой у переезда,
а паровозик маленький снуёт,
и белый пар – сугроб среди сугробов.
Неотличима шалость от труда,
неотличима, видишь, я шагаю
и каждым шагом зарабатываю столько,
чтоб возместить потерю сил от шага.
О, равновесье дивное, закон
всеобщий и дарующий спасенье
душе приблудной и несмелой!
Я – в законе,
беру, что можно, от щедрот природы
и никому на свете не мешаю.
Ты внушил
мне это чувство, ветреник весёлый?
Читать дальше