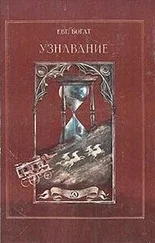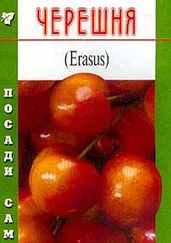С этим чувством
я выхожу на крошечный проспект
к домам, автобусам, трамваям, людям.
II. Из книги «Своё время»
«В моей чернильнице давно живёт паук…»
В моей чернильнице давно живёт паук
и я тихонько трогаю рукою
тончайших нитей серебристый пук,
осыпанный чернильною мукою.
Здесь целый мир, засохшая страна,
где есть хребты, долины и вулканы…
Прекрасный мир, без цели и творца,
он так похож на мой, что даже странно.
1
О, светлая комната, чист твой оструганный пол
и срезана небом ненужная больше лепнина;
здесь воздух, настоянный на кожуре мандарина,
и свет отовсюду плывёт, восхитительно гол.
Здесь есть только женщина в вечном изгибе своём,
ей данном от Бога, как спелость осенняя листьям.
Возможно, что море заметно в оконный проём,
возможно, художник случайно дотронулся кистью.
2
Ложиться на кровать,
забыв о взрослом горе,
и в маленьком просторе
о море вспоминать.
Заброшенный причал.
И, как в твоём пейзаже,
на опустевшем пляже
волнение у скал.
Над волнами песка
струящаяся плёнка,
и у меня, ребёнка,
спадает пелена:
такая благодать —
лазурная свобода,
седьмого небосвода
звучащая печать.
«С чего-то сердце у меня…»
С чего-то сердце у меня
болит надрывней, чем вчера,
видать, изменится погода,
и среди ливней октября
проглянет ясная пора,
как реквием по смерти года.
Восторжествует жёлтый цвет,
но сущий осени портрет
есть пустота пространства-вздоха;
тогда он может быть и без
застиранной голубизны небес,
хотя без этого и плохо.
И вот он – кроткий вздох тепла,
подобный хрупкости стекла,
звенящего предельной нотой…
Дни осени тем хороши,
что в них присутствие души
очерчено твоей заботой.
«Мне тяжело, как зверю, жить собой…»
Мне тяжело, как зверю, жить собой,
к своим следам упорно припадая.
Ты нужен мне, какой-нибудь другой,
чтоб сердце не давало гулкий сбой,
себя в себя, как в волны, погружая.
Ты нужен мне, чтоб медленно следить,
дивясь, что и тебе – свобода воли,
как ты легко и умно хочешь жить,
как ты стакан ко рту подносишь пить, —
да ты и вправду существуешь, что ли?
Ты нужен мне, чтоб я, как Иов, мог
тебя в сердечной скорби опровергнуть.
Услышав твой благоразумный слог:
концы с концами – нищенский итог,
тебя, как иго чуждое, отвергнуть.
Теплоход навис над пустым причалом,
мокрый плеск под брюхом худого настила,
вата темноты, теплота начала
мягкой лапой ночи тебя настигла,
растопила сгусток остывшего сплава:
как безумно в тигле подростка кипело
ожиданье чуда, желанье славы
пополам с прозрачным и чистым напевом,
что донёсся бризом, над морем рея,
обходя легко словесные сети
волнованьем волн, словно «Ave Maria»
затянул дискантом морской Лоретти.
Повторенье темы угрюмей и глуше:
двор, кишащий котами, орущими жутко,
где в ложбины асфальта стекается лужей
содержимое раблезианских желудков;
жизнь листай назад – это время в рамах,
разгребай завалы людей, событий,
и тогда, под ворохом тёплого хлама,
ты найдёшь себя накануне отплытья,
и пойдёшь опять, и начнёшь сначала,
только бы узнать, что же в этом было:
теплоход навис над пустым причалом,
мокрый плеск под брюхом худого настила.
Ещё томящийся во мне
мотив прерывистый и трудный,
утерянные в смутном дне
крупицы ясности минутной,
тихонько хнычущий во сне
ушедшей жизни тонкий прочерк,
косящий на моём окне
протяжных капель влажный почерк,
обрушившее ночь в стекле
зарниц мгновенное плетенье,
тоскующий в моём стихе
раската ропот в отдаленье,
сплетающий свои ручьи
поток по блещущей брусчатке,
случайные слова ничьи
в лежащей на столе тетрадке,
летящие по потолку
по воле ветра свет и тени…
«Та женщина, с которой всякий раз…»
Та женщина, с которой всякий раз
был внове мир, которая преступно
тебя в уме держала про запас, —
а ты смотрел до онеменья глаз, —
теперь почти всегда тебе доступна.
Читать дальше