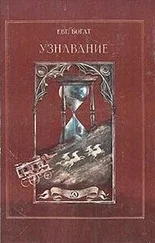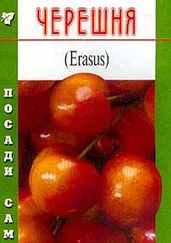Сохрани мне умение
быть и небом, и глиною…
А не то, – дай терпение
и забвенье звериное.
«Я ставлю на себе страшный опыт…»
Я ставлю на себе страшный опыт:
я много ем и много сплю,
я хочу всего лишь то, что хочу,
я смотрю сквозь плёнку тупого равнодушия
на своё раздобревшее тело,
в его тугом довольстве.
И тогда я спрашиваю себя:
доволен ли ты? счастлив?
чего ещё хочет твоя притихшая душа?
Оказывается, она хочет сказать обо всём этом
поточней…
Дура, неужели она всё ещё хочет, чтобы её
любили?
Тугое плоти натяженье,
как в шёлковом чулке – икра,
весь этот блеск твой и кишенье,
твоё внушенье и игра,
твоё площа́дное уменье,
как фокусник, из ничего
создать текущее мгновенье,
в котором жизни жить всего
удобней…
И когда по лужам
опять ребёнок вдрызг бежит,
вода скрывает влажный ужас
того, что за водой стоит.
«и я бы мог…»
Запись Пушкина под рисунком виселицы
Река, изба и луг,
заката свет прохожий
крадётся лесом, вдруг
он мечет алый ножик
в просветы сосен. Стук
на стыках рельсов. Боже,
ты видишь всё вокруг:
мальчонка поднял вожжи,
река, изба и луг,
«В щель занавесок – быстрых рук мельканье…»
В щель занавесок – быстрых рук мельканье,
горячий свет, как фокусник, тасует
одежду, тело: переодеванье, —
воображенье сладостно тоскует.
Зачем нам эта близость с неизвестным
(там свет погас, и что в том сне приснится?),
когда своим, назойливым и тесным,
мы так полны, что впору отстраниться?
Так жизнь своя, пережитая страстно,
укутанная всласть словесным пухом,
воображенью видится прекрасной,
но вдруг она окажется старухой?
«Навеки врезается всякая малость…»
Навеки врезается всякая малость:
щербины асфальта, прохожий, морщины…
Ты спущен в подробности с дальней вершины,
где след их потерян, где связь их осталась.
Навеки?
Помилуй, нам выдана ссуда
небрежною щедростью скрытого мира.
Беспечный монтажник скомандует: «Вира!»,
и всё возвратится туда, откуда.
Поезд трудно отходит от платформы, натягивая
до упора
нити горя, любви, жалости, детского ора
и внезапно рвёт их, оставляя пустыми
пассажиров, взявших с собой только имя
и готовность наполниться будущим до предела,
а пока упускающих настоящего крупное тело:
с переплясом стволов, стыков частой считалкой,
простоволосым видом спугнутого полустанка,
временем, подтекающим под дребезг стакана,
сумасшедшим соблазном стоп-крана:
дёрнуть – и сорвать планы
провидения, несущего смерть и раны…
«Как я себя сегодня не люблю…»
Как я себя сегодня не люблю
так даже ты – не можешь;
споткнусь о пристальную ненависть, сравню, —
ну что ты гложешь
остывший хрящик, когда вот оно —
дымящееся мясо,
к нему – презренья скисшее вино,
зияет касса
ушедших чувств, – ну что, банкрот,
длить время стоит,
пока испуга одичавший крот
туннели роет?
Перетерпи, вглядись, направь софит:
в болящей точке
пусть всё дотла, до пепла прогорит.
Лети, пустая оболочка!
«Воскресная прогулка. Как я рад…»
Воскресная прогулка. Как я рад
пройтись по этим улицам без цели
и, увеличив протяженность тела,
пространство пропустить через себя.
Ты, бескорыстье, лучший проводник, —
куда велишь, туда я и шагаю,
покорно следую извивам парапета,
безлюдной набережной скользкому пути
и захожу во все дворы и подворотни,
лишь стоит поманить стеной кирпичной,
косым окном, прорубленным под крышей,
и черным деревом в нетронутом снегу, —
заветной жизнью тесного угла,
где выход только в небо, вверх и в небо.
И вновь холодный, в оспинах, гранит,
вослед за костенеющей рекой,
ведет на старое немецкое кладби́ще,
где узкие протоптаны тропинки
среди камней, под выпушкой из снега,
со стершимися буквами псалмов,
где тень от смерти стерлась и исчезла
настолько, что не может возродить
ни бледных девушек в кисейных длинных платьях,
ни их отцов в парадных сюртуках,
уложенных семейственно и рядом.
И я, чья жизнь нелепее стократ,
быть может, а точнее – несравнимей,
стою, живой, под низким ровным небом
и представляю кукольный уклад
их жизни – осознание, как чудо,
полно серьезности и тайны: тень крыла
коснулась сердца и исчезла.
Читать дальше