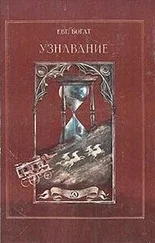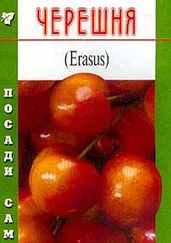2
Когда напротив света – ореол
волос его пушится в блеске солнца,
но недоволен чем-то, даже зол.
Мы есть ни взгляд снаружи, ни внутри
живое копошение тепла.
Есть третье, невозможное, смотри,
смотри, там пусто – ни добра, ни зла;
там только день, какой угодно день,
пробивший тучи солнца яркий коготь,
и человек отбрасывает тень,
прилипшую к асфальту, словно дёготь,
и я – лишь точка вгляда на него,
на свет над ним, живущая лишь этим…
И никого, чтобы расставить всех
и успокоить, правильно отметив.
3
Эти спазмы любви-нелюбви,
как погода за пыльным окном —
заболочены мутью тоски.
Краснощёкое слово: любовь,
давних лет умирающий зверь,
но кусается загнанно, зло.
Нет исхода и заперта дверь.
Если гибнуть, то гибнуть вдвоём.
4
Он был мёртв, ничего не писал,
взгляд блуждал среди дохлых вещей,
с их ухмылкой копчёных лещей,
мелкий голос хихикал: «пропал!»
Это место ушедшей любви,
«ничего» отвратительный зоб,
перекрёсток корысти и лжи
и гнездо неразобранных злоб.
Да, и всё-таки, сердце лечи
пустотой-голизной за окном.
И молчи, ради Бога, молчи,
чтобы слово не сделалось злом.
5
Тогда он пойдёт и живьём попадёт в черноту
осеннего сада пустого, с его перехлёстом
голодных и голых ветвей на холодном ветру,
живущего в воздухе редком свободно и просто.
Беспамятство жизни, покорной и свету, и мгле,
цветенью и смерти недолгой, предстанет укором:
«нечисто твоё пребывание здесь, на земле!»
И он будет изгнан из этого сада с позором.
«Нехорошо. Нащупывая дно…»
Нехорошо. Нащупывая дно
себя, едва удержишься от стона.
Но взгляд пустой, наткнувшись на окно,
вдруг наполняется безумным цветом клёна.
Вот почему мне осень…
Красота,
в саму себя ушедшая по плечи,
снимает стыд, как стылая вода
снимает с неба ночью отблеск млечный.
…тело лишь прекраснее тогда,
когда ты ничего о нём не знаешь,
но вот, стоишь у чёрного окна
и ртутным светом улиц отливаешь.
Невидимая осень за углом,
шурша по заоконным переплётам,
пытается прикинуться зверьём,
ломая руки деревам-уродам,
но тоненькая… Всё же, упаси,
в такую ночь не в комнате, а в стуже,
и руки, прикрывавшие соски,
хватают плечи, замыкая ужас
представленный… Спасение себя
уютом самозамкнутого тела —
стон против мира за спиной стекла,
покорности его окоченелой.
Там всё необходимо решено:
чтоб хрусткую листву настигла кара,
чтоб молодое светлое вино
играло – зрело – становилось старым.
Так на каком настояна вине,
откуда эта странная свобода:
всей кожей – по крахмальной простыне,
и одеяло взять до подбородка,
коснуться кнопки лампы, чтоб легли
из-за неплотных штор полоски света
на опушённый край её щеки
и локоть, на подушке косо вздетый.
Но погоди, продлись, ещё постой,
придуманная мной у занавески
с такой полузабытой чистотой,
что мне слепит от преизбытка блеска.
«Мне снился сон, что я сошёл с ума…»
Мне снился сон, что я сошёл с ума
и это было медленно и скверно;
на улице гулящая весна:
бесстыжий воздух, оживают черви,
а плоть ещё тревожит колкость терний
и близость ада прочит запах серный.
Мне снился отвратительный пейзаж:
клочки небес, куски пустой породы;
а здесь весна творит свой ералаш,
прокисший снег питает огороды,
и страсти предпасхальные природы,
как бешеный ребёнок, входят в раж.
Мне снилось ощущение беды,
ну, успокойся, это был не ты…
…………………………………
Ты видишь эти колкие кусты,
где между веток воздуха зиянье,
как праздник преизбытка немоты?
Что значит это наважденье сна
и буйство внезаконное природы,
и почему их нужно совместить?
Но я стою у пыльного окна,
просвеченного солнцем, словно что-то
мою попытку хочет освятить.
«Жизнь пролазит в ушко́ игольное смерти…»
Жизнь пролазит в ушко́ игольное смерти,
«нет» и «нет» окружают короткоживущее «да».
Как нам выпукло светит, слезящая крупно, звезда
в топком бархате чёрной, её обступающей тверди!
Читать дальше