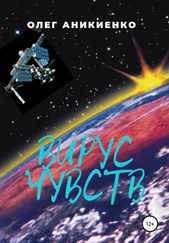он – тыкал,
при этом словно
задыхался от теплоты,
забившей той ночью горло.
Ее же,
не смог обогреть до утра, —
(диванчик общаги стынет…)
– Не уходите! – как жгущий шрам
приличному семьянину.
А за спиною —
жена в слезах
выставила хорошее…
«Не уходите…» – легко сказать,
у кого с родинку прошлое.
Ждать,
когда выпадет тайна – ночь
с той, что затопит радостью.
Ждать и молиться вором: Еще!
Хоть бы разок до старости.
* * *
Объятия без глаз, без губ,
без слов признания печально
отпустит ночь. И Анатом
неотвратимо на рассвете
сдирает ложь с души пинцетом
(как фартук его жесток, груб).
Спасительная дверь! Бегут
любовники, тая надежду,
в душевный бред, в сердечный скрежет,
забыв случайную кровать,
пока в печенку не проник
ногтем безжалостный мясник.
А с рук его стекает горечь.
А с рук его сползает, корчась,
сонм грешников. Но не убить
в тоске отчаянной, звериной,
как стон, не называя имя,
зовущее: Любви! Любить!
* * *
Но однажды,
ощутив марианский провал живота,
ты не сможешь ее не узнать —
это та,
уже и не жданная, с которой
не видя ее, говорил,
обнимал, прислушивался к дыханию,
о своем твердил,
ссорился, ждал примирений,
обдавал холодом, грел,
открывал в ней все больше,
брал, отдавал, старел,
выводил быстроглазых, крикливых,
быть может, двоих – троих,
и когда-то, почувствовав ее пальцы —
с благодарностью стих.
* * *
Ресничны поцелуи век
и опьяневший сторож сна
уже не служит. Лишь Луна
из звездной винодельни свет
струит по стеблю шеи, в грудь —
две чаши славные… Мой друг,
не выпить мне их, ждут давно
напитки живота и ног.
И по серебряной тропинке,
на зачарованной земле
ты в подколенную ложбинку
войдешь, вдыхая сладкий плен.
Но как бы ни томил глоток
зрачки и ни дурманил память, —
заветной амфоры исток
откроешь лунными губами.
* * *
Мы уже ведь идем, подруга, – крепи
наши пальцы в замке… Что-то нечисть вопит,
на болотах чадят и плюют пузыри,
сверлят спины нам гнусы, хрипят упыри,
но нельзя заплутать, не дано разойтись,
слишком мало осталось,
тем, кто поздно нашлись.
Мы выходим на поле. Струится рассвет,
тайный трепет печалью
в бледной траве.
Одинокое древо лижет туман.
Все как призрачный сон. Но это – обман.
Ты не верь, если трудно – веки сомкни
на минуту-другую. Вместе мы.
Мы выходим к жилищам. Город Зеро,
где лишь входы без выходов.
Видимо кров
здесь устраивать нам. Готова ли ты
открывать эти ставни, ворота, мосты?
Мы идем и не знаем: те, кто не спят —
пораженно за нами следят.
От кого эти блики, мерцанье во мгле?
За плечами странников – пара колец.
Две луны серебрятся по волосам,
обнимая друг друга, играя, искрясь.
И сойдясь воедино лучом круговым,
освещают идущих огнем голубым.
* * *
Неделя до приезда твоего.
Всего неделя… Ждать уже невмочь.
Ни спать, ни есть, ни думать о другом.
Год в каменной тоске. И видит Бог, —
не спился, ни скулил. Но сдерживая вой,
лунатиком у кассы трудовой
на ведомости, как в наркозном дыме,
не подпись ставил, а твое лишь имя…
Всего неделя… Правда, что змея,
разрубленная пополам стремится
горячей раной вновь соединиться?
Подобно ей ползу. Смеясь
сам над собой. Неловко мужику
так поклоняться образу, звонку,
письму, воспоминаньям, снимку,
с которым маешься, как псих, в обнимку.
А впрочем, Главный врач боготворить
тебя позволил. (Хоть закон игры
восторг предполагает обоюдный).
И если руки не в ремнях, – нетрудно
с иконостаса вновь перенести
в холодный тамбур светлые черты,
в дым сигареты, в перестук на стыках,
и в мысли о надеждах и ошибках.
Качается, будто хмельной, вагон.
На суточное перемирье обречен
сожителей плацкартных коллектив.
И лязг металла выстрочит мотив
крестами на висках. Да за окном,
как в зеркале, печальным рукавом
виденье привязалось: « долг… должна…»
А за стеной, откроешь дверь – стена.
Скрипит состав. Старея, гнутся оси
колес, планет, миров. И рычаги,
как ножки насекомых, как крюки,
снуют без остановок, вкривь и вкось
людей сцепляя: он – она – они…
Тряси, вагон! Обманывай, звени
железками. В движении забыться
приятнее, чем кислоты напиться.
Читать дальше
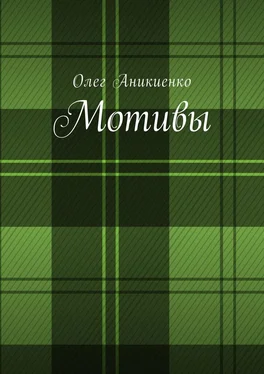

![Олег Аникиенко - Восставшая природа [СИ]](/books/421117/oleg-anikienko-vosstavshaya-priroda-si-thumb.webp)
![Олег Аникиенко - Параллельная цивилизация [СИ]](/books/421119/oleg-anikienko-parallelnaya-civilizaciya-si-thumb.webp)
![Олег Аникиенко - Мусорный ветер [СИ]](/books/421120/oleg-anikienko-musornyj-veter-si-thumb.webp)
![Олег Аникиенко - Любовь всей жизни [СИ]](/books/421121/oleg-anikienko-lyubov-vsej-zhizni-si-thumb.webp)