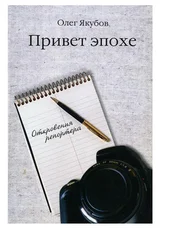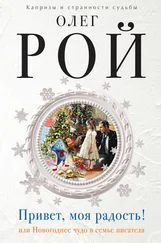закат скрывая, спустится над крышей,
и вот уж первый на ветру кленовый лист,
сорвался вниз, кружась звездою рыжей.
В аллеях парка, словно сонные ежи,
каштаны прячутся в колючих летних шубках,
а ветер в кронах – бесприютный Вечный жид,
скрывает тайну непрощённого проступка.
И, вслед за первым оторвавшимся листком,
тоска накатит вдруг негаданно-нежданно,
и вот уж слёзы на глазах и в горле ком,
под стоны в трубах – от контральто до сопрано.
Прокравшись тихо в закулисье дежавю,
под шорох листьев, шелестяших под ногами,
вернусь туда, где весел был и юн,
и сдам на прочность памяти экзамен.
В который раз в судьбе осенний листопад,
кружит мне голову пьянящим разноцветьем,
а дождь промозглый и сырой осенний ветер,
меня уносят на много лет назад.
Снова выпадут три карты,
шелестя на край стола,
будут Сартры, Бонапарты,
свечи, кровь, колокола…
Ось земная не сотрётся,
время не метнётся вспять,
будут встречи у колодца,
повторится всё опять.
Луговой кузнечик -
лета менестрель,
поёт с утра до вечера
его виолончель.
Дурманом трав навеяны
мелодии без слов,
они в траве рассеяны,
где прячется любовь.
Найду её желанную,
сплету из слов венок,
чтоб трав согрело пьяное,
душистое вино.
Осенней ночью стылою
сниму венок с гвоздя,
опохмелюсь унылой я
мелодией дождя.
Круглолица и бледна,
под глазами тени,
бродит по небу луна
словно привидение.
Ночи стали холодны,
тишина отрадою,
и, как слёзы у луны,
звёзды в небо падают.
Карусельные лошадки,
им не надо фуража,
резво скачут без оглядки:
«Берегись на виражах».
Им к сезону красят ноги,
вместо новеньких подков,
нет у них другой дороги,
нет любимых седоков.
И не ржут и не мигают,
лишь колёсики шипят,
целый день они катают
на своей спине ребят.
А ведь хочется сорваться,
чтоб из шага, прям в галоп.
после, в речке искупаться,
да мешает кнопка «Стоп».
Целует солнце нос и щёки,
а ветер кружит сарафан,
и флер, таинственный и лёгкий,
влечёт в беспечный нас роман.
Он, как весенний сон наивен,
пьянит, как свежее вино,
его наутро смоет ливень,
а ветер унесёт в окно,
оставив в памяти веснушки,
дух свежескошенной травы,
и шелест плачущей листвы,
да рыжий волос на подушке.
Кому-то даст Господь ума,
кому-то красоты,
писатель сядет за роман,
дьячок прочтёт псалтырь.
Молиться будет злату Крез,
а нищий медякам,
и каждый понесёт свой крест,
на суд последний в храм.
И там, в заоблачной тиши,
где всяк пред небом гол,
на всех горбушку раскрошив,
за общий сядем стол.
На солнце греется кошка,
щурит глаза с поволокой,
за воробьём под окошком,
недремлющим следует оком.
А там – воробьиная свалка,
за хлеба сухую корку,
кошке корку не жалко,
от корки ей мало толку.
Да и от пичуг галдящих,
один только шум да гам.
Их счастье – помойный ящик,
как и помойным котам.
У неё ж молоко из блюдца,
пусть старого, но с ободком.
Воробьи из-за корки бьются:
ну разве сравнишь с молоком.
На солнце дремала кошка,
и вздрагивала во сне.
Снилось ей детство в лукошке,
а может быть, сны о весне.
Нахмуренная, чёрная, как сажа,
пятном чернильным растекаясь в небесах,
свисала туча с крыш многоэтажек,
как пена после пива на усах.
В пространстве узком, меж землёй и тучей,
парит, как в бане липкой духотой,
застыло время, стало медленно-тягучим,
течет лениво струйкою густой.
Рванули ветры сквозняком со всех сторон,
подняв опавшую листву до самых крыш,
срывая с веток перепуганных ворон:
в одно мгновение вдруг воцарилась тишь.
Светло, как днём, улёгся ветер обессилен,
вокруг всё замерло, предчувствием томясь,
разверзлись хляби и из тучи хлынул ливень,
дождём смывая накопившуюся грязь.
Остатки тучи, налетев кромсали ветры,
по стёклам вымытым, по солнечным лучам,
ломая свет на радужные спектры,
июльский дождь по крышам застучал.
Запах свежескошенной травы
Когда захлёстывает грусть,
и сыт от истины в вине,
на миг зажмурюсь и очнусь,
в забытой памятью стране.
Читать дальше