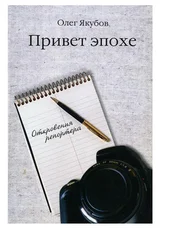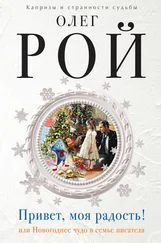заветные слова.
Дал блеск в глазах уверенный
и, как в парной от веничка,
у баб, им околдованых,
кружилась голова.
Дал насладиться славою,
до головокружения,
познать за жизнь короткую
с лихвой и Крым и рым,
любимым стать державою,
аж до изнеможения,
в дворцах и за решёткою,
рабом чужой игры.
Дал удаль молодецкую,
Русь воспеть кабацкую,
пустив талант на волю,
хмельную, без узды,
до смерти душу детскую,
дав ей судьбу дурацкую,
покинуть землю с болью,
оставшись молодым.
И поэтому в ночи осенние,
клён опавший завидя в окне,
лачет Русь по Серёже Есенину,
"золотыми звёздами в снег".
Боль за сгнивший наш порядок
ты хрипел.
Быть с тобой хотел я рядом,
не успел.
Вены вздыбились на шее
и на лбу,
предвещая нам нелёгкую
судьбу.
А на кухнях наших маленьких
квартир,
с этим хрипом зарождался
новый мир.
Нашей совести поднялся
потолок,
осветив наш самый тёмный
уголок.
Пел о дружбе, о хорошем
и плохом,
жизнь улучшить Ты хотел
своим стихом.
И в Париже, и в узбекском
Чирчике,
песни пел на чисто русском
языке.
Мир изменится и канут в век
года,
в сердце нашем Ты остался
навсегда.
У кошки бездомной орава котят:
цена легкомыслия в марте,
она не жалеет о прошлом, хотя,
ей снится подвал на Монмартре.
Подвальчик на солнечной стороне,
где даже и осенью сухо,
а рядом скулит не на русский манер,
такая же, только сука.
Лижет французским своим языком,
щенят, постигающих Фрейда,
незрячим, впитаются в кровь с молоком,
инстинкты любить без апгрейда.
Хоть в кровь им изгрызли потомки сосцы,
и тощие пуза отвисли,
обе не ждут ни Харибд и ни Сцилл,
повсюду и ныне и присно.
И молится кошка незримым Богам:
за всех обездоленных мантра,
за суку с Монмартра и кошек с Багам,
и за повторение марта.
Бьётся рыба на крючке,
бьётся бабочка в сачке,
а на шее бьётся жилка,
тесно ей в воротничке.
Вся надулась от натуги,
аж в глазах поплыли кр‘уги,
и дрожмя дрожат поджилки,
как в горячечном недуге.
Распустил я воротник,
воздух в грудь мою проник,
я, как птица на свободе,
словно узник без вериг.
Скучно без воротничка,
скучно рыбе без крючка,
жилке ровно биться скучно:
спит, как скрипка без смычка.
Донага разделся, гол,
но в душе царит раскол,
а свобода где-то рядом,
без претензий на престол.
Строг наряд её и прост,
с ней коса на всякий рост,
и не давит шею ворот
ожерелие из звёзд.
Любишь ты кофе в зёрнах,
непременно ручной помол,
с пенкой чтоб был и чёрный,
чтоб дух ароматный шёл.
Впотьмах, обжигаясь об турку,
я тебе сочинял мадригал,
куплет напевал про Мурку,
а кофе всегда убегал.
Как мираж появлялась на кухне,
ты в сонном ещё забытье,
казалось, что мир весь рухнет,
растворится в небытие.
Пьянил в полумраке твой профиль,
озноб ниспадавших бретель,
я спешил отвечать на Голгофе,
за кофе сбежавший…, в постель.
Приметы осени ещё не режут глаз,
их август скроет жаркими деньками,
упрятав в память тысяч фотокамер,
на снимках лета, в профиль и анфас.
И лишь разглядывая фото из альбома,
заметишь первые морщинки на лице,
глаз выражение, доселе незнакомое,
как баритон, сорвавшийся в фальцет.
Там лёгкий иней в бронзовом окладе,
на летнем солнце по осеннему блестит,
напоминая о грядущем листопаде,
и я, несущий молодость в горст'и.
Туманное утро,
блеснула росинка в траве,
и в дымке рассветной
слил‘ась с облаками.
их ветер попутный,
помчит, словно стадо овец,
чтобы пасть неприметной,
дождинкой на камень.
Мне в окно заутреню
воробей чирикал,
чтобы радовался дню
и делам великим.
Чтобы солнцу был я рад
и весны приходу,
майский чуял аромат,
даже в непогоду.
Воробей не соловей:
он глаш'атай буден,
с песней утро веселей
и подьём не труден.
Буду до заката дня
помнить ту молитву,
стал понятен для меня
слог её нехитрый.
Громко спорят за окном
воробьи с синицами,
на дворе ещё темно,
но уже не спится им.
Первый утренний трамвай
зазвенит азартно,
Читать дальше