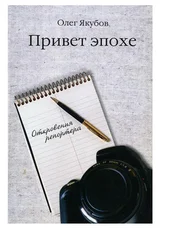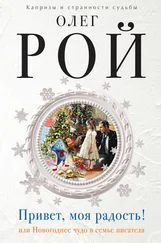это просто подкралась осень.
И, свою собирая жатву,
всё, что лето с солнцем отдало,
возвратит вам весной обратно,
чтоб на сердце теплее стало».
Мы с тобою растопим печку,
и будем вдвоём вечерами,
любовь из душевной аптечки,
при болях прикладывать к ранам.
Я, про возраст забыв разговоры,
принесу тебе кофе в постель,
раздвину на окнах все шторы,
и к нам возвратится апрель.
Обрастает память дырками,
как карманы в пиджаке,
видно часто пальцем тыркали,
сжатым фигой в кулаке.
Был всегда в кармане штопор,
провалился он в дыре,
дырку наскоро заштопал,
чтоб не зябнуть в декабре.
Ничего, что нафталином
пахнет старый пиджачок,
если в доме нет камина,
подниму воротничок.
Сохраню его, как память,
как копилку для наград,
если мало места станет,
поношу на маскарад.
Я люблю пиджак мой старый,
хоть он ветхий и дыряв,
в нём удобно и на нарах,
и на праздник Октября.
На приём у королевы,
я займу на время фрак,
скину в дырках мой, как невод,
верный старенький пиджак.
И друзья конечно правы:
дело вовсе не в дыре,
ничего, что он дырявый,
важно чтобы душу грел.
Легче фрак купить, чем память,
даже если не богат,
всё равно, что было с нами,
не вернуть уже назад.
не успел с зимой проститься,
как весна в окно стучится,
чтобы новую страницу
в чувствах приоткрыть.
пробуждая от дремоты,
нас вопросом: где ты, кто ты?
закружит в водовороты,
заставляя жить.
книга жизни без закладок,
и полным полна загадок,
их ответ безумно сладок,
и пьянит, как хмель.
но, все чаще в чувствах прочерк,
жизнь становится короче,
и однажды, среди ночи,
встанет карусель.
Мой дух распяли времена,
не тронув тело,
живой остаться лишь одна,
любовь сумела.
Мне греет угли под костром,
согреть пытаясь,
чтоб тело тлело под крестом,
душе на зависть.
Зимой наступят холода,
костёр дотлеет,
и, телу силы все отд мчьав,
любовь слабеет.
Пуржит метель, бело окрест,
как в дивной саге,
ложится снег, как анапест,
на лист бумаги.
Верну тепло любимых губ,
сойду с креста я,
оставлю сердце на снегу,
и снег растает.
Груба материя, но без неё увы никак,
надолго словом хлеб не заменить,
в каморке тесной, натощак, поэт-чудак,
кует из слов стихов серебряную нить.
Из звуков, что несл'ышны шдля других,
из трелей птиц, из шелеста листвы,
его соседи называют просто: псих,
ведь кроме прочего, он всех зовёт на Вы.
Детей пугают им, вздыхая с сожаленьем:
не дай Господь им заразиться от него,
он так опасен для грядущих поколений:
ведь он из слов не производит ничего.
А чудик-псих всего не слышит и не видит,
из всех материй, лишь бумага и перо,
он на соседей глупых вовсе не в обиде,
упрямо снова ставит слово на зеро.
В шуме будничном вокзала,
где царил привычный гул,
репродуктор вдруг прорвало,
будто рявкнул Вельзевул.
Булькнул что-то, еле внятно,
не прокашлявшись с утра,
был курильщик вероятно -
хрип из самого нутра.
Нищий с сумкой на скамейке,
в ожидальный въехав транс,
в нём просматривал ремейки
– льготный дежавю сеанс.
В многоликости вокзальной,
споря с многоцветьем лиц,
нищий внешности сакральной
– украшение столиц.
И, вливаясь в жизни эхо,
свистнув, литерный ушёл.
На скамейке нищий ехал,
в миф, где было хорошо.
Несбыточно-заветная мечта,
вдруг погрузиться в первозданный х'аос,
где не на сцене, настоящий Фауст,
всем нынешним поэтам не чета.
Там, как простой, с зонтом идёт прохожий,
копытом шлёпая по лужам, босиком,
сам Мефистофель, настоящий тоже,
махая канночкой, к козе за молоком.
У них у всех, что на уме – на языке,
там слово золото, а вовсе не молчанье,
и всем живётся, как-то просто, налегке,
ну, разве только, кто напьётся паче чаянья.
Нет светофоров и шлагбаумов тоже нет,
а за порядком следит один Всевышний,
забот небось у Бога, выше крыши,
один на всех, без перерывов на обед.
А я средь них – ну точно: "конь в пальто",
с привычками земными не расстаться,
стараюсь быть собой, но всё не то,
хоть и прошло уж лет наверно … 'надцать.
Видать пожизненно нести, как крест печать,
Читать дальше