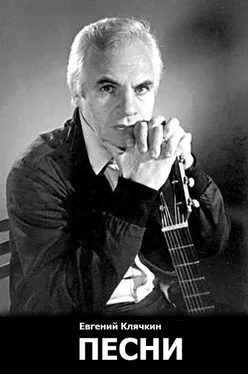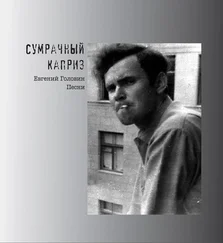Пять кандидатов всех наук,
а может — пять канатоходцев,
и свежее клеймо на лбу:
рабы на время, но охотно —
и что?!.
Страшнее кошки зверя нет —
в метро, на службе или дома…
И ветчину кладет в пакет
мне продавщица гастронома.
1-11 мая 1966
Век девятнадцатый — все в меру…
Век девятнадцатый — все в меру:
изящность дам, галантность кавалеров,
и робкое полупризнанье —
итог горенья и терзанья.
Двадцатый век — другая мера:
активность дам, прохладность кавалеров.
И робкое полупризнанье —
как результат полужеланья.
9 июня 1964
Опять весна, и черная земля
послушно пьет растаявшую зиму,
и в теплый пух оделись тополя —
в мильонный раз все та же пантомима.
В саду людей орудуют кроты:
то здесь, то там трепещет одуванчик,
и вызревают новые плоды
на деревах грядущих оправданий.
И шутки грустны, и привычно нам
щадить других, себя не защищая.
Но две дорожки брошены к ногам:
«как все» — одна и «все для всех» — другая.
А вот разгадка: брать пример с травы,
спокойно лечь, когда настанут сроки.
Зеленый лист из мертвой головы
укроет всех — и добрых, и жестоких.
Здесь нет вопросов и решений нет,
но есть богатство и стальной порядок:
ты жил, как выбрал — в гуще, в стороне, —
теперь ложись, а кто-то станет рядом.
Ты для него, как кто-то для тебя,
оставил семя и немного места,
и каплю горечи, но это — ерунда:
возобновленье стоит этой мести.
20 мая 1964
Две слезинки нарисуют
два коротеньких следа —
уводящие в ненастье две дорожки.
— Вот и праздник наш кончается.
— Ну что ты — никогда!
И давай сегодня только о хорошем —
завтра будут самолеты, поезда.
Завтра будут, а сегодня — никогда.
Теплый лучик по щеке скользнет,
паутинку-грусть с лица смахнет,
снежный ком осядет и вздохнет,
превратится в ручеек.
Ну и где она, твоя беда, —
утекла неведомо куда.
Словно талая вода,
не оставила следа,
ни следа от нее.
День едва-едва зажегся —
голубой весенний день,
и мелодия его не зазвучала.
И сосульки, словно люстры,
и бубенчики детей —
ну какое может быть еще начало,
и откуда здесь возьмутся мрак и тень,
если сами мы похожи на детей.
Солнце глянуло в просвет из туч,
дотянуло и до нас свой луч,
ты сомненьями себя не мучь —
что несет тебе оно?
Видишь, умный маленький цветок
смотрит чашечкою на восток —
ни сомнений, ни тревог, —
вот глоток, еще глоток —
пьет поток сквозь окно.
Наши тени все короче —
все прямее бьют лучи.
Никуда от них не деться — и не надо!
Мы бы многое сказали,
только лучше помолчим —
паутинки могут вырасти в канаты,
если слово неудачно прозвучит,
и поэтому мы лучше помолчим.
25 марта — 6 апреля 1987
Никотинные пятна ложились на площади,
истеричный трамвай завывал и повизгивал,
улыбались мне сверху какие-то лошади,
под колесами лопалось солнце, и брызгами —
и тяжелыми брызгами падало на плечи,
на лицо и за ворот, и голос простуженный
то ли шепотом, то ли неслышными воплями
потухал, не достигнув лица. А над лужами,
а над лужами шли молчаливые женщины,
пряча лица от ветра, храня их для близкого,
и из каждых ворот, от карниза, из трещины —
голубиные свадьбы со стонами низкими.
И из каждых ворот, от карниза, из трещины —
голубиные свадьбы со стонами низкими.
6-10 марта 1970
В детской комнате сейчас покой и сон.
Снова маленьким хотел бы стать я сам.
Целый вечер что-то рисовал мой сын.
На полу листки белеют здесь и там.
Я беру листочек в руки просто так.
Дело к битве, но пока еще не бой —
нарисован краснозвездный грозный танк
с очень длинной паровозною трубой.
Пятилетнему конструктору все впрок:
Папа, могут танки ездить под водой?
Ну не рыбой плавать, а ползти, как рак?
Могут, только нужен воздух для людей.
Вот еще листок, и тоже наугад.
Сердце стукнуло и покатилось вниз.
Повторяется мой сорок третий год:
наши немцев бьют и дымом пахнет лист.
И кругом победа, и погибших нет.
Эй, сдавайся, кто пока еще живой!
Нет, не надо больше нам таких побед —
до сих пор не умолкает бабий вой.
Читать дальше