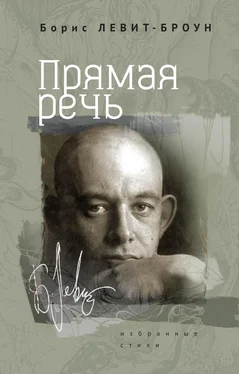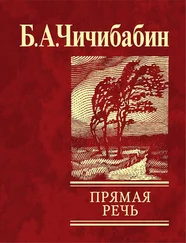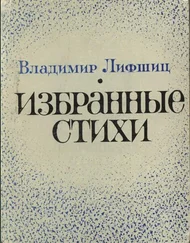5
Шершавый Понт пасёт свои стада,
отмахиваясь, как от мух, от чаек,
а я сегодня-завтра уезжаю,
и так обидно, будто – навсегда.
Уже идти, а что-то не иду,
и плакать не могу (спасибо ветру!),
ещё дышу последним полуметром
у подступившей соли на виду.
*
Я вижу ласточку в наборе
ветхозаветной тишины,
и солнце побеждает в споре
и мы должны… да, мы должны!
А что?..
*
Заволокло! Обиженные горы,
невольность опрокинутых надежд,
Рассудочная грамотность природы,
Несбывшийся загар.
Заволокло…
*
окно и кипарис и даль
от синевы раскосый прищур бога
и под окном загадка трёх морей
*
Твои слова знают правду
мои – красоту.
Кто из нас виновен больше?
*
Кораблик измеряет просинь,
и что-то медное дрожит,
не договаривая осень…
*
Та, которая… та далеко,
а ласточки ветхозаветны.
Синева…
Бездорожье назад.
«Слагать мелодию, пленяться стихосказом…»
Слагать мелодию, пленяться стихосказом,
не понимая как и отчего,
и видеть всё смутнее с каждым разом
черты предназначенья своего.
Так вымысел блуждает без ответа,
втирается в зелёное сукно,
и, изгнанный за двери кабинета,
спокойно возвращается в окно.
Догорит и день, и час,
и минута испарится.
Ночь, – чернильная царица, —
приберёт недобрых нас
словно крошки на столе.
В завтрашней распутной дрёме
я очнусь, как на соломе,
на сегодняшней золе.
«Зима на улице и что-то, вроде…»
Зима на улице и что-то, вроде…
и черви в бороде.
Их сытый клин
не оставляет места для седин.
…как крест распятого на огороде, —
штанины – знаменем,
а фалды – хомутом.
Потом, потом, ребята…
всё потом!
И совесть, и раскаянье в народе,
и памятные пляски в хороводе…
а нынче в моде
простое положение – крестом.
Подожди меня, переулок,
не кради мои фонари!
Я – заложник в плену прогулок,
сохрани и не торопи.
Я сверну, сверну, будь уверен!
Завяжу вот только шнурок.
Всё равно, я уже потерян
на весь окаянный срок.
Я – твой из самых заблудших,
из самых отпетых повес.
Шатальник, стервец и – лучше —
застрявший в детстве балбес.
Утро, Ялта, шелест пены,
тайный страх невольных слёз,
и в природе перемены,
хоть не иней, не мороз.
Солнце с набережной дружит,
небо празднует успех,
и народ живет, не тужит,
только нам с тобой – не в смех.
Точностью минут парадных
распинается табло,
знало, знало бы оно,
как на сердце безотрадно!
Как мне горек твой висок
за минуту до разлуки
и какие это муки —
от «Прощай!» на волосок.
Тронешь белою перчаткой
рейса мутное окно,
и улыбкою, и складкой
тихой муки. Всё равно
неизбежно рейс отчалит,
увозя тоску мою,
и тебя тоской ужалит
и оставит на краю.
Где-то Ялта, – шелест пены, —
издалече не видна.
Между нами горы-стены,
я один и ты одна.
Вздрогнуло окно и покосилось
неустойчивым распятьем рамы,
незабудкой в воздухе носилась
некая мифическая дама.
Панорама города исчезла,
и поляны залило цветами,
мы не изменили позу в креслах,
кресла изменили её сами.
Вздулись как-то вдруг и побелели,
и, вонзив ладони в их бока,
рассмеялись мы и полетели,
осознав, что это облака.
Но внезапно дама отвернулась,
и распятье рамы устоялось,
панорама города вернулась,
будто ничего и не случалось.
Я не вижу раздела
между морем и небом.
Всё туманы, туманы…
Не единым же хлебом!
В самом деле, не вижу…
С высоты небоскрёба
всё в порядке на море,
чайкам в небе уютно.
Я не вижу просвета,
я не знаю ухода.
Холода и свобода —
два горелых листка.
(и молчат пароходы)
С высоты небоскрёба
всё – химеры… химеры…
неистрёпанность веры
(от гудка до гудка)
Читать дальше