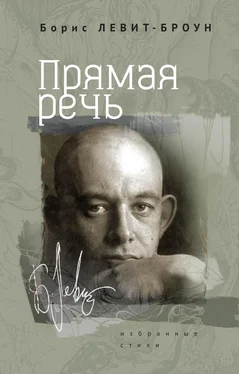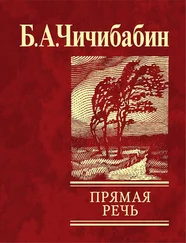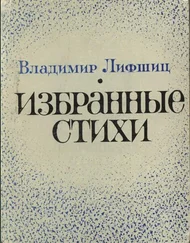И как запуганный Нептун
заныриваешь под корягу,
и по морщинам фазы лун
считаешь, кутаясь в отвагу,
не сознаваясь сам себе,
что прозябаешь в пустоте,
что жалок ты, что почернели
твоей невинности цветы,
что среди нудной маеты
расстроились и поглупели
«рассветов бледные свирели»,
что весь твой юношеский вздор —
на дне души осевший сор.
Таков ты, бледный и немой,
и настоящий рыцарь быта,
в котором всё поперебито.
О чём же говорить с тобой?
О празднике?
О спазме счастья?
О благотворности ненастья
для оторвавшейся души?
О том, что суета – гроши?
О чём?
О творчестве? О боли?
А может, о посконной доле
карабкающихся на шест,
у жизни вырвавших борьбою
лишь право грустное на крест?
О чём заговорить с тобою?
И что с собою делать мне,
не приспособленному к тьме?
С добропорядком не в ладу,
среди людей я как в аду.
Или хочу я слишком много,
или сужу уж слишком строго,
а всё приюта не найду
в саду общественной морали!
Нет на Моисеевой скрижали
слов для меня…
«Словно кляксы смолы на облущенных ветках…»
Словно кляксы смолы на облущенных ветках
хороводят вороны, ошалев от весны,
и мучительно больно, безжалостно метко
попадает в мои недосп а нные сны
чувство горькой свободы и тихой печали,
одиночество среди запекшихся луж.
Наступая на раны весенних проталин,
я иду – ни отец, ни любовник, ни муж…
Что же я – нелюдим,
старый хрыч-бесприданник?
Непечатный поэт, и увы, не звучащий певец?
Кто же я – пустобрёх или, всё же, избранник?
Безголосый крикун?
Самоед?
Перелётный скворец?
Как в распутице вязну в весеннем раздумье,
и когтями себе уже в самую душу залез!
Птичий тенор на тополе просто ополоумел
и трещит надо мною, приняв шумный город
за лес.
Мы всё простим, мы всё забудем,
настанет время мирных снов.
Мы в завещанье добрым людям
оставим бред своих стихов.
Мы насладимся красотою,
переполняющей сердца,
но вечным тихим сиротою
останется печаль творца.
А день погонит петушино
с калиток заспанных котов,
и, распрямясь, вздохнут пружины
в матрасах тех, кто в путь готов.
Заржёт металл в глубинах века,
и люди, сонны и глухи,
легко смахнут былинкой с века
уже ненужные стихи.
И в новый свет!.. И мимоходом,
не сожалея ни о чём,
пройдут бестрепетным народом,
едва коснувши нас плечом.
Уходи!
И не приходи никогда!
Пусть – пилой по гортани года,
пусть откроются гордо и рвано
былые и новые раны.
Как маки на ложе бежавшего сна
просыплют они семена.
Пусть!
Я лягу на это ложе!
Ничего, что десну защемит десна,
когда чёрными зёрнами в кожу
боль войдёт, горяча и красна.
Это и будет весна.
«Вечность неслыханно тронула листики…»
Вечность неслыханно тронула листики
венчиком жарким и запахом тела.
В вашем присутствии мне не до мистики, —
холодно и неуютно без дела.
Хоть прикоснитесь ладошкой осеннею!
Выцветшему и уже переспелому, —
тесно отпущенное воскресение.
Холодно и неуютно без дела.
Только скучают на холоде пальчики,
вашей перчаткой лишь буду обласкан:
не остановятся бледные мальчики,
не зазевается розовый плакса.
Я поцелую Вас, память о юности,
Вы отшатнётесь – «А ну-ка, посмей-ка!»
и обопрётесь без видимой лютости
об эту тонущую скамейку.
«Сколько мне ещё осталось…»
Сколько мне ещё осталось,
кто сочтёт, доложит кто?
Преждевременную старость
втиснуть в зимнее пальто
мудрено ли, только страшно,
что под ватою шурша,
вдруг забредит о вчерашнем
неотжившая душа.
«Как ни крути, а жизнь пройдёт…»
Как ни крути, а жизнь пройдёт,
промямлит стариковским бредом
и недоеденным обедом
невозвратимо загниёт.
Среди распушенных кудрей
что возвратит мне чувство смысла?
А под изгибом коромысла —
улыбка кротости твоей....
«Предчувствую весну, предцарствую любовь…»
Предчувствую весну, предцарствую любовь,
и лужами зеркал, как Эрмитаж, обвешан,
сплю – не усну, зеваю вновь и вновь,
застигнут робким маревом черешен.
Читать дальше