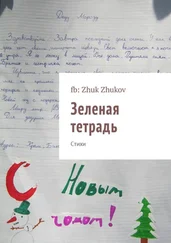Далёкий гром и звон колоколов
венчают полдень.
А в старом здании из всех углов
хрипит и стонет.
Как много влаги в вате облаков,
как мало в ветре.
Больничная палата стариков
теснее смерти.
Ползёт гроза над Розой Люксембург
и над Рабочей,
и в небесах рокочет хриплый звук.
А этой ночью
здесь чья-то мама выгорит дотла
в углу, в котором
твоя на койку узкую легла
из коридора,
казённого белее полотна,
что шьют и порют.
Дай Бог, чтоб смерть была им не длинна,
а ровно впору.
Вновь на Петра и Павла гремят ключами:
небом лежит дорога, пора приспела.
Твой самолёт высоту наберёт с рычаньем —
чисто душа, отрываемая от тела.
Часто дышать и слушать, сплетая пальцы.
Тучи взбивают Павел и Пётр, дождями стелют.
Иллюминаторы стиснут земное в пяльцы:
город, горящий огненной канителью.
Море видать под луной на Петра и Павла,
ветер степей, обнимая, пахнёт лавандой.
Что озираешься, будто с небес упала,
наперебой переспрашивают цикады.
Жаркий рассвет накрывает меж сном и явью.
Дверь отвори, губу закусив до крови.
Только не думать бы, сколько убавил
Павел,
только не слышать бы звяканье связки
в руке Петровой.
Млечным младенчеством, сонным и жадным,
хлебной опарой, зерном на току,
пахнет мускатом лозы виноградной
знойная женщина в самом соку.
Пусть жестковата махра полотенца:
мокрую прядь убирая с лица,
палец скользит её, весь в заусенцах,
с незагорелой полоской кольца.
Разве забудешь такие объятья?
Сможешь ли выкинуть из головы
запах её креп-жоржетовых платьев,
«Рижской сирени» и «Красной Москвы»,
дух от простынок полынный и горький,
мыло и пудру, и утренний свет?
Тальк и клеёнка.
Зелёнка и хлорка.
Но не утрата.
Пока ещё нет.
А бредить – на исконном языке,
прикушенном с ухода самых близких.
Ей, стиснутой у Господа в руке,
осталось умирать на украинском,
когда феназепам и фентанил,
каких она не выговорит сходу,
когда вдохнуть не остаётся сил,
и губы ловят судорожно воду,
когда отёкшей согнутой ногой
собьёт простынку, снова пить попросит,
в железной койке выгнется дугой
и выдохнет на материнском:
досыть!
в этой самой больнице
у неё принимали долгие роды
из подушки давали дышать кислородом
надо ж – пешком по городу ночью
идти беременной
акушерки умаялись ждать воскресения
и меня записали в журнал субботой
не всё ли равно кто там
когда родится
позже в той же больнице
тогда ещё современной
послевоенной
спасали переливанием из вены в вену
прямо от операционной сестры
кедры и розы под окнами как эти иглы остры
на проводах рассаживаются птицы
завотделением терапии злится злится
последние полтора года
маму сюда ежемесячно как на работу
если гемоглобин сорок
кровь прокапать хоть что-то
вами должна заниматься ваш гематолог
а она я одна на город в полмиллиона душ
анемия не онко у меня же полно тяжёлых
я и так назначала кучу бесплатных уколов
если их нет в аптеке дождитесь квоты
господи шепчет мама когда ж я уйду
у завотделением не рот а одна помада
чёрным-чёрным закрашена седина
снова ко мне вам не ко мне надо
господи говорит мама
никому-то я не нужна
молится мама дома боится
господи не приведи мне больше больницы
фиброз
сублейкоз
лейкоз
опиоиды
яд трансдермально с квадратиков целлулоида
вилла онейро по полису ОМС
нашей люмпенской как-бы-ниццы
в окна палаты лезет пузатым тюлем
ветер ни капли прохлады конец июля
так и сгоришь довольно одной искры
боже остры твои иглы как же они остры
красным огни за огнями цветут над бухтой
детские страхи проснутся под гром салюта
взрывы бомбят война
я здесь одна
почему я совсем одна
где тут спрятаться
Читать дальше