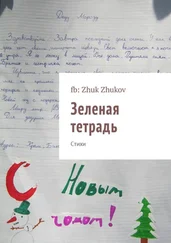не помогают чужие эритроциты
гаснут
кровь перелита
напрасно
завотделением злится
а медсестра которой мама
в школе химию преподавала
бежит со шприцем
сейчас сейчас марьиванна
медицина отчаяния
дексаметазон
на пару часов сон
завтра на полчаса
послезавтра на десять минут
выпрошенная таблетка иначе не засыпает
иди сам
немного поспи папа
чем тут
помочь
я подежурю в ночь
бьётся в кровати катетер из вены сорван
из-за отёков не невесома
не узнаёт
ни имена ни лица
будит крича пол-больницы
дерётся когда даю кислород
кто ты
эй ты
дай мне сесть дай мне лечь дай мне воды
рот
вытянут трубочкой как у плодов граната
изогнута шея
скрючены пальцы синдром руки акушера
антинатальна её палата
роды наоборот
папа вернётся наутро а мама
как только вынести смог
ехала к папе поездом
год назад бы сказала к родителям
корпус больницы в лесах строительных
слева над Ушаковкой вдали
ремонтируют век её не увидеть бы
лучше б совсем снесли
Как безнадёжно, как страшно она умирала.
Разум ей изменил и тело её предавало.
Мало-помалу жизнь её утекала
от самых Петра и Павла и до Ильи.
Все, у кого для прощанья остались силы,
все, кого в жизни она как могла любила,
те, с кем за многие годы разное было —
женщины и мужчины – все перед ней прошли,
кто её прежде знал, молодой, горячей,
кто для неё когда-то хоть что-то значил,
стоя на жарком ветру, и молясь, и плача,
черпали с края могилы горсти сухой пыли.
Дайте воды, бо я дуже людина хвора,
дайте повітря! Звонки и носилки «скорой»,
мертвенный свет больничного коридора —
всё, что могли мы. А много ли мы могли?
Мать и отец почудятся,
братья, сестра приснится…
Господом Богом просила всех, небесной царицей,
дай менi руку , кричала, витягнить менi звідси,
ось де прохладно постелить менi на землi.
Врач, не таясь, говорил: конец. А она стонала,
только смеркалось – меня уже не узнавала,
именем дочери не родившейся называла,
всё повторяла в ужасе: Лизонька, Лиза, Ли…
Здесь, на земле, не нашлось для неё лекарства.
Ныне, в девятый день,
начинается круг мытарства.
Боже, прими её душу, открой ей царство,
дай ей прощенья, муки её не дли.
Будь милосерден: видишь, с неё довольно!
Пусть никогда ей больше не будет больно,
если грешила, вольно или невольно,
слёзы отри ей, печаль её утоли.
Не за себя молю: мне самой ничего не надо.
Дай же ей место покоя, место прохлады,
ей ведь ещё со мною хватило ада
за три недели —
с Петра и Павла и до Ильи.
С тех самых пор и не было дождя.
Но лишь канун сороковин нахлынул,
завыли ветры. Тучи, приходя,
тащили влагу на понурых спинах.
Весь август – злой, невыносимый зной.
Глаза сухи, и с неба ни слезинки.
Хватало пекла, и не мне одной:
морг, отпеванье, кладбище, поминки,
бумаги и казённые дела.
И полнится луна, и убывает:
Ни на секунду жизнь не замерла.
А ты с портрета смотришь как живая.
Мы взяли фото из буфетной дверцы,
добавив слева ленточку – на сердце.
Я вспомнила места, где мы с тобой
ходили вместе. Знаешь, их немного.
Всё тот же запах соли и прибой,
всё та же в соснах пыльная дорога.
И так же гасли ночью этажи,
деревья и клонились, и шумели,
цикады цыкали и шастали ежи,
и только сон ко мне не шёл в постели.
А сверху в телефон кричал сосед
(Наташу помнишь? Рак, он быстро убивает):
я был на кладбище, я был, там мамы нет! —
и я внизу кивала, понимая.
Так трудно быть теперь немой и стойкой,
смирить гордыню, ярость побороть,
черствея, как отрезанный ломоть
поверх налитой поминальной стопки.
А папа жжёт ночник, не может спать.
Покуда чайки лаются на крыше,
он смотрит на соседнюю кровать
и стонет, думая, что я его не слышу.
Нет, не болел – недомоганье просто.
Всё ждёт, не веря: ты вот-вот войдёшь.
И в небе опрокинут звёздный ковш
вселенским знаком вечного вопроса.
Тебя он видел пару раз во сне,
день на шестой и накануне ливня.
Ты только мне не снишься. Ты не снишься мне.
Как мне уехать от него, скажи мне.
Читать дальше