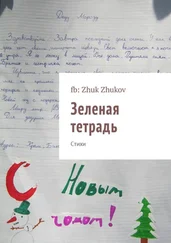К маме гость командировочный
завернул лет семь назад:
не с корыстью, не за помощью,
а приветы передать.
Про учительницу старую
говорили допоздна:
дочь в столицу по базарам, а
та теперь совсем больна —
о невестках да о шуринах,
этих вспомнили и тех:
свадьбы для родных-двоюродных —
стол на сотню человек.
Где они, где те застолья?
Где садов соседских сласть?
Вырубали их – и солью,
чтоб у дома плитку класть.
Гость заезжий и посетовал:
где-то на краю села
заросла могила дедова,
подчистую заросла.
И никто к ней не притронется —
ни родной души вокруг.
Только там, подальше, в Броннице
старший сын лежит и внук.
Ты не плачь, и я не вечная —
с коцюбы как сивый дым —
скажет мама, значит, встречу их,
поскорее бы к своим.
Пригревает солнце крымское,
закрываются глаза.
Снится детство украинское
и на Троицу гроза.
Может, в церкви кто помолится
за родню и земляков?
Под окном горюет горлица:
всё зовёт Гоцуляков.
Помню литые, долгие дни
дочкиных тех каникул.
Папа сказал: уж ты извини,
нынче я без клубники.
…В Харькове душно. Плацкарт, стомлён,
ждёт обирал. Таможню.
Сумки видкрыйте! И тычет он
в банку: о це – не можно!
Я же везу три литра всего,
думал, гостинец внучке,
что ещё крымского, своего?
Мытарь царапнул ручкой
строчку в блокноте. Замер вагон:
муху слыхать в полёте.
Я к нему как к человеку. А он:
швыдче! Або выходьте!
И проводник, опустив глаза,
(сам – на базар черешню):
батя, мол, слушай, теперь нельзя…
Сыдячи в Крыме – ешьте!
Как сыпану на перрон: да на!
Хочешь – подымешь с полу.
Выронил банку в сердцах: со дна
аж отлетел осколок…
Грядки, покуда хватает сил.
Гордость сынов крестьянских.
Ни у кого ни о чём не просил
выросший под Бердянском,
ведавший голод, стрельбу-войну,
суржик и мову: мамо!
Только разбили его страну,
да на осколки прямо,
чтобы из Харькова танки шли
в край, где печёт подошвы
пласт опалённой степной земли,
где, отзываясь прошлым,
снова грохочет беда-война,
и паренёк загорелый
горстку клубники возьмёт со дна
банки под артобстрелом.
Грядки в пороховом дыму.
– Сколько, бабуль?
– Нисколько!
Внуку гостинец бы своему…
Сладкая.
Без осколков.
Речь моей мамы как вишен созревших сок.
Вишен на Винничине, что снятся и мне.
Лепят в стодоле ласточки под потолок
гнезда.
Діду Іван вiвци жене …
Вижу во сне: дед Иван мелет в стодоле хлеб.
Сыплется с жерновов ржаная мука.
Вижу во сне на стерне бабы Софии серп,
ранку на левой ноге.
И поверх – лист подорожника…
Белый, как вишен цвет, уже мамин висок.
Маме моей скоро восемь десятков лет.
Я, говорит, туда не поеду.
Всё.
Надо же было дожить до поры, пока станешь сед,
думая, что в Украине все такие, как я,
думая, что украинцы – одна семья.
Я не хочу больше знать их.
Только не с ними.
Нет.
Не с палачами.
Не с катами.
Вони мені – не братья!
Пусть как от вишен оскомина,
но повторю: к кому?
К этим песиголовцям?
Вони же вбивають.
Жгут!
Были мы под фашистами.
В детстве.
И потому
к ним – не поеду.
А наши в могилах.
Пусть подождут.
Так говорит моя мама, и речи её темны,
словно вишнёвый сок, но боли не утолят.
Бьётся в падучей родная её земля —
там, где к погостам крестами
родичи пригвождены —
От Приднестровья до Приазовья.
Кров'ю гірчить .
И не идёт ко мне сон: я слышала, как звучит
маминым стоном в ночи
память былой войны.
И я не могу молчать.
И ты не молчи.
Я научилась спать и в самолётах,
но не до сна. Очнись и посмотри:
ты как дыра. Чернеющее что-то,
а по границе – яркий свет зари.
Мне путь домой по воздуху не длинен,
хоть дожила до сумрачной поры,
когда пилот обходит Украину,
чтоб над проливом вырулить на Крым.
Ты флагом так трясла, как синим небом
и спелостью подсолнухов внизу,
что и радары становились слепы,
и птицы с неба падали в грозу,
и заморозок шёл над головами
подсолнухов, ростки к земле клоня.
И флаг твой почернел и окровавел:
смешался с хаки. Цвет перелинял.
Как раньше сбила «Ту», так сбила «Боинг».
И над тобою прекратился свет.
Ведь Бог – он выше нас. Но не с тобою,
не с буковиной пущенных ракет.
Читать дальше