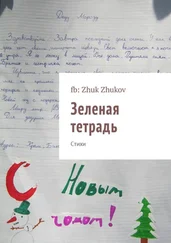Двери аэропортовской едва
сомкнутся лезвия – и сорок дней подбито.
И по глазам ударит красная Москва:
как будто с ходу резанули бритвой.
Белеют косточки плодов
у ног черешен.
Забыв угрозы холодов,
зацвёл орешник.
День прибывает на глазах,
питаясь ночью.
И скоро чёрная лоза
слезу заточит.
Горит закатный Чатыр-Даг
в одеждах снежных,
а здесь в долинах, юн и наг,
зацвёл орешник.
И птицы белые в полях,
и пашни строчки.
У кизила и миндаля
набухли почки.
Пирамидальных тополей
седые свечи.
Под небом родины моей
цветёт орешник.
Покуда спит туман в садах,
крупнеют звёзды.
Сквозь ветви чёрные звезда
на абрикосе
горит, предвосхищая цвет.
О жизни вечной
напомнив, в преющей листве
взошёл подснежник,
посажён маминой рукой.
И в знак надежды,
что ей покойно и легко,
цветёт орешник.
Папа скажет: стоят как невесты —
про черешни в цветущем саду.
И на ветках кипению тесно,
и витает дурманящий дух.
Папе вторит усердная птица —
роет землю, улиток клюёт.
И в тени, распластавшись тряпицей,
шило-клюв задирает удод.
За калиткой, кривой и скрипучей,
где работы в избытке для двух,
обрезаю засохшие сучья
и сжигаю сухую траву.
В облаках, набухающих тестом,
солнце прячет лучи – потому
их, пронзающих землю отвесно,
видно только в апрельском дыму.
Как созреет – окрасится алым
сочных ягод черешневых гроздь.
Мама их как вчера собирала.
А теперь тут лишь папа. Да дрозд
распевает. О камень лопата
загремит. Полетят лепестки.
Посадивший черешни когда-то
им приствольные правит круги.
Я корней оживающих шёпот
слышу словно подземную дрожь:
ты забыла такие заботы.
Так ли трудишься? Так ли живёшь?
Эх вы, рано созревшие дети,
сладким соком измазанный рот…
По ветвям, как сосудам в плаценте,
бродит кровь, чтобы вырастить плод.
Время вспять обращается, к детству.
Ствол шершавый рукой обниму,
прирастая к родимому месту:
под черешнями.
С папой.
В Крыму.
Ветер мая – шёлк по коже.
Маков степь полным-полна.
В дымке Чатыр-даг, похожий
на лежащего слона.
На отвалах серых сланцев,
в рыжей глине, на скале,
в колосках у автостанций —
волны маков, осмелев,
долетают до обочин,
вслед автобусу глядят.
А в саду, большие очень, ждут
горячего дождя.
Брызнет – и как не бывало.
Я приехала к отцу.
Мак пылает жарко-алым,
сеет синюю пыльцу,
сеет сонную. Лиловым
венчика горит неон,
а за ним многоголовый
розовый встаёт пион.
Подоспевшая черешня,
светом жимолость пьяна,
и на зелень белым плещет,
расцветая, бузина.
Ноет сердце без причины,
перехватывает дух.
Млеет мак. И спит мужчина,
поработавший в саду.
Я слышу крыльев плеск и свист:
одна из серых голубиц
на виноград слетает вдруг.
Её полёт рождает звук:
поёт крыло у крупных птиц.
Её крыло за каждый взмах
по воздуху рисует знак —
восьмёрка лёжа на боку.
Конечно, знак.
Пусть будет так.
Томится виноград в соку,
набравший сладость к октябрю,
и тени от него легли.
Тепло исходит от земли.
А я молчу.
И я смотрю:
две перекрещенных петли,
а в точке между них покой.
Я повторяю этот знак,
водя по воздуху рукой.
Замах крыла,
ещё замах…
И в свисте слышится укор:
зачем, зачем решила я
покинуть в юности края,
где горлицы,
и дом, и сад?
Петля вперёд.
Петля назад.
Пора, пора под виноград,
горящий светом на лозе.
Пора вернуться.
Насовсем.

Не напомню: ведь расстроится
мама в кресле под окном.
А была престольной Троица
в церкви там, где мамин дом.
Там, где тихая – ещё мелка —
золотится поутру,
крутит петли Котлюбаевка,
воды унося к Днестру.
Где солома крыши вымокла,
где над печкой хлебный дым,
где свивала домик иволга
под листвою у воды.
Где бумаги довоенные,
что сгорели у румын
вместе с храмом в отступление,
выправляли по живым.
Читать дальше