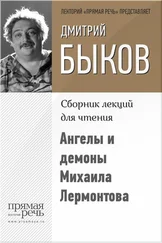Но потом опять все мирно:
липы ветками качают,
Бабки с внуками выходят
и родителей встречают,
Едут потные родные —
сумки белые в руках —
Погулять на выходные,
покопаться в парниках.
И меня вот так же встретят
километре на тридцатом,
Мы пойдем на свой участок
под алеющим закатом,
А плывущий стороною
тот, другой, ужасный цвет
Буду чувствовать спиною,
но оглядываться – нет.
Впрочем, может, он казался,
но смешался и растекся?
Здесь не верится в такое.
Запах астры, запах флокса.
Чай по ходу разговора. Чашки жаркие бока.
Вся дорожка вдоль забора
в белых звездах табака.
Новостей дурацких детских
говорливая лавина.
Черноплодка и малина,
облепиха, клещевина.
Все свежо, пахуче, мокро
и другим не может стать:
Чай допьем, закроем окна,
на веранде ляжем спать.
И выходишь в сад притихший,
где трава пожухла жутко,
И стараешься не видеть,
как кусты к забору жмутся,
Как вступает лакримоза
в айне кляйне нахт мюзик
И распарывает небо ослепительный язык.
«Но образ России трехслоен…»
…Но образ России трехслоен
(Обычай химер!),
И это не волхв и не воин,
А вот, например.
Представим не крупный, не мелкий,
А средней руки
Купеческий город на стрелке
Реки и Реки.
Пейзаж его строгий и слезный —
Хоть гни, хоть ломай.
Не раз его вырезал Грозный
И выжег Мамай.
Менял он названия дважды —
Туда и сюда,
А климат по-прежнему влажный:
Вода и вода.
Теперь он живет в запустенье,
Что год – то пустей:
Засохшая ветка на стебле
Торговых путей.
Зимою там горы сугробов
И прочих проблем,
И книжная лавка для снобов
В них тонет совсем.
Там много сгоревших строений,
Больших пустырей,
Бессмысленных злобных старений —
Что год, то старей,
От мала, увы, до велика,
Чтоб Бога бесить,
Там два предсказуемых лика
Умеют носить:
Безвыходной кроткой печали
И дикости злой.
Они, как сказал я в начале, —
Поверхностный слой.
Но девушка с местных окраин
С прозрачным лицом,
Чей облик как будто изваян
Античным резцом,
Собой искупает с избытком
Историю всю —
С пристрастьем к пожарам, и пыткам,
И слезным сю-сю.
Красавица, миру на диво, —
Сказал бы поэт,
Который тут прожил тоскливо
Четырнадцать лет.
Все знает она, все умеет,
И кротко глядит,
И в лавке для снобов имеет
Бессрочный кредит.
И все эти взятья Казаней,
Иван и орда,
Недавняя смена названий
Туда и сюда,
Метания спившихся ссыльных,
Дворы и белье —
В каких-то последних усильях
Родили ее.
В каких-то немыслимых корчах,
Грызя кулачки…
Но образ еще не закончен,
Хотя и почти.
Я к ней прибегу паладином,
Я всё ей отдам,
Я жизнь положу к ее длинным
И бледным ногам.
Она меня походя сунет
В чудовищный рот,
Потом прожует меня, плюнет
И дальше пойдет.
На горизонте розовый и серый
Недвижный лайнер, смутный, как рассвет.
Я на него гляжу с тоской и верой,
А может быть, его там вовсе нет.
Таким я вижу розовый и серый,
Морской, рассветный цвет небытия,
В котором всё измерят верной мерой —
По крайней мере в это верю я.
В конце времен – неблизком или близком,
На горизонте дымно-заревом
Пусть василиск возляжет с василиском,
Но агнец перестанет спать со львом.
Не то что кара-кара портит нравы, —
Не ад с котлами – это скучный бред, —
Но просто мы поймем, что были правы.
А если нет —
Что ж, если нет, то снова быть неправым,
Гордиться не победой, а виной
Сочту финалом менее слащавым
И более логичным, чем иной.
Не выправит горбатого могила,
Не ототрет родимое пятно.
Со мною только так всегда и было
И быть должно.
В эпоху византийца Юлиана,
Отступничества долгие года, —
Так просто быть в составе миллиона,
Решившего, что это навсегда!
Пока ликуют псы и скоморохи,
Как знать, что отречение Петра —
Не суть эпохи, а петля эпохи,
И, может быть, последняя петля?
Последнее свидетельство – отступник,
Уловка мирового скорняка.
Так птицы возвращаются на сутки,
Чтоб улететь уже наверняка,
И эти все сегодняшние лажи —
Не сделавшийся явным ход планет,
Не глас народа, не секунда даже.
Но если нет —
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу