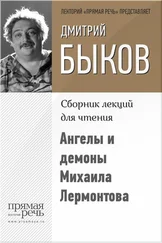Ведь Пастернак сказал: соблазн!
Никто не отменял.
(Сам за собой следил, стоглаз,
и ясно понимал.)
Творцу желателен лайфньюз,
симфония, союз:
Он вечно думает: сольюсь!
(И никогда – сдаюсь.)
Мой взгляд на мир довольно трезв.
Я не особо горд.
Был прав один достойный перс,
в один застойный год
Сказавший кругу своему:
скромнее, вашу мать!
Вы не сломались потому,
что некому ломать.
Есть вариант, что я смирюсь,
противиться устав,
Есть вариант, что притворюсь
(родня, не обессудь),
Есть вариант, что затаюсь —
в трактире, как Фальстаф, —
Есть вариант, что забоюсь
(накопится, как ртуть).
Я знаю, как уютен мир для сдавшихся ему,
Утративших ориентир
в искусственнном дыму,
Его вонюченький уют, загаженный лесок,
В котором каждому дают
заслуженный кусок.
Короче, тысяча причин и множество идей
Для утомившихся мужчин и пожилых…дей,
И я не пафосный осел, не первый ученик,
Чтоб чувствовать себя во всем
настолько лучше них.
Слаб человек, я говорю. Я знаю суть свою.
Я, может быть, и погорю, а может, – устою.
Когда и я, и вся родня устанем от потерь —
Тогда не слушайте меня, а слушайте теперь.
Теперь, пока меня не съел
альцгеймер или страх,
Пока я не мишень для стрел,
не мясо на кострах,
Пока не жрет меня Кощей,
втащив на свой алтарь, —
Напомню семь простых вещей,
бесспорных, как букварь.
Кровавый люмпен – не поэт.
Разборка – не война.
Пусть дикость длится тыщу лет, —
конечна и она.
Бог – не пахан.
Душа – не блажь.
Блатные нравы – зло.
Земля не ваша. Крым не ваш.
А тот, что ваш – ***.
Когда вы перекроете нам скудные рубли,
Мы станем жить без роялти, на то,
что сберегли.
Когда вы запретите работу нашу всю,
Мы выедем из сити и станем жить в лесу.
А вы, как подобает клирику, отнимете у нас
печать —
Тогда мы перейдем на лирику и будем
вслух кричать.
А вы нам запретите лирику, когда вам
надоест, —
Тогда мы перейдем на мимику, мы перейдем
на жест!
Вот так они всегда, всегда они —
на гребне, на волне:
Им кажется, что мы в нокдауне, —
а мы еще вполне!
Среди неутомимой злобности, прямой,
как ход ладьи,
Всегда себе отыщем области, где можно
быть людьми.
Пусть это даже будут лекции, лазанья
и кутья,
Пусть это даже будут секции вязанья
и шитья,
Хотя все это поношение и ваш немолчный
скрип —
Источник самоутешения: когда б не вы б,
то мы б…
Как много бы всего мы сделали, к усладе
ушей и глаз,
Когда бы мы от вас не бегали, не знали
вообще о вас!
Хотя иные ваши келари завоют, только
тронь,
Что мы бы ничего не сделали, когда б
не ваша вонь.
Тогда вы нас совсем притиснете, как делает
весь восток,
А мы, хотя и будем при смерти, начнем
свистеть в свисток.
А вы тогда уже поймете, что вышел вам
облом,
И просто нас тогда убьете – а мы тогда
помрем.
И сразу вы тогда отменитесь, поскольку
мир суров,
Изменитесь и обесценитесь, как дыры
без сыров,
И все, что выше перечислено – и почва,
и народ, —
Все сделается так бессмысленно, что Бог
его сотрет.
Будто вся родня на даче;
будто долго и устало
Еду к ним на электричке
с августовского вокзала;
Город розовый и пыльный,
вечер пятницы, закат.
Пригляжусь – никто не видит,
или видят, но молчат.
Между тем уже вполнеба или больше
чем вполнеба
Что-то тянется такое, то ли сверх,
а то ли недо,
Что-то больше всех опасок,
заслоняющее свет,
Адских контуров и красок,
для которых слова нет.
Но ни паники всеобщей, ни заминки,
даже краткой,
Только изредка посмотрят в ту же сторону
украдкой —
И опять глаза отводят, пряча жуткое
на дне,
Все торопятся уехать – тоже, может быть,
к родне.
Ну а может, в самом деле,
лишь один я это вижу —
Эти всполохи и всплески,
эту бешеную жижу?
Я в последнюю неделю, в эту тяжкую
жару
Явь от сна не отличаю,
мыслей всё не соберу.
Но привычно двери пшикнут,
и потянутся, ведомы,
Проводов неутомимых
спуски плавные, подъемы,
Вспоминаться будут снова
и заглядывать в окно
Полустанки сплошь на – ово, или – ское,
или – но.
Но среди родных названий
вдруг проглянет неродное —
То ли что-то ременное,
то ли что-то коренное;
Чья-то девочка заплачет,
средь народа не видна,
Лошадь белая проскачет
вдруг, без всадника, одна.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу