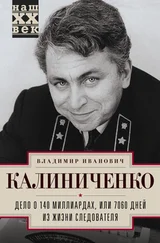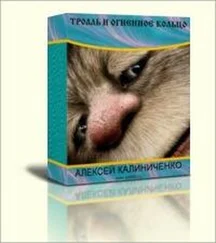Вздымаюсь курганом все шире и выше,
Журчу в водотоках, бегу в проводах,
Во мне все мосты и карнизы, и крыши,
И листья каштанов, что ветер колышет,
И облаком в небе моя борода.
Зачем я? К чему этот рост несуразный?
Затем ли чтоб вечером долгого дня
Я сверху на город взглянул звездоглазно,
А тот фонарями и кольцами газа,
И тысячей окон глядел бы в меня…
В глазах кашалота протяжная гаснет
мысль,
Пока он недвижный лежит в полосе
прибоя.
Взлетают гагары, и волны целуют мыс,
И небо над пляжем пронзительно-голубое.
На шкуре гиганта отметки былых побед
С тех пор как спускался подобьем
Господней кары
В кромешную бездну, куда не доходит
свет,
И рвал, поглощая бесцветную плоть
кальмаров.
Вот снасть гарпунера, что так и не взял
кита.
Вот ярость касаток, кривые акульи зубы,
И старый укус, что оставила самка та,
Которую взял подростком в районе Кубы.
Он видел вулканы и синий полярный лёд,
И танец созвездий над морем в ночи
безлунной,
Беспечный бродяга холодных и теплых
вод,
Как знамя над хлябью свои возносил
буруны.
Но странная доля, проклятье больших
китов,
И в этом похожи с людскими китовьи
души.
Владыкам пучины как нам, до конца
веков,
Из вод материнских идти умирать
на сушу.
Взлетают гагары, и волны целуют мыс,
Заря безмятежна, а даль, как слеза, чиста.
В небе над пляжем упрямо штурмует высь
Белое облако, похожее на кита.
Сегодня я вижу, особенно дерзок твой
рот,
Ты куришь сигары и пьешь обжигающий
брют,
Послушай, далеко-далеко в пустыне идет
Слепой одинокий верблюд.
Ему от природы даны два высоких горба
И крепкие ноги, чтоб мерить пустые
пески,
А здесь воскресенье, за окнами – дождь
и Арбат,
И хмурое небо оттенка сердечной тоски.
И ты не поймешь, отчего же случайная
связь
Приносит порою такую ужасную боль,
А там над пустыней созвездий – арабская
вязь,
И глазом Шайтана восходит кровавый
Альголь.
Но старый верблюд не увидит величья
небес.
Он чует лишь воду и змей, и сухие кусты,
Как ты, обольщая бандитов и пьяных
повес,
Торгуешь собою, не зная своей красоты.
Пусть память поэта простит небольшой
плагиат,
Но вдруг ты очнешься от тягостных
сладких забав.
Ты плачешь? Послушай, далеко-далеко
на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Его еще не забыли.
Соседи расскажут вкратце,
Как рылся в автомобиле,
Ходил на канал купаться.
Нескладный, худой, лохматый,
Одежда, как на чужого.
Едва ли он был солдатом
И вовсе не пил спиртного.
Работал по будням в книжном,
В субботу играл на флейте,
Чудак с бородою рыжей.
Его обожали дети.
Он часто вставал до света,
И что-то на крыше строил,
Антенну, маяк, ракету?
Из жести неладно скроенную.
За это его ругали,
А он лишь молчал угрюмо.
Милицию вызывали,
Писали доносы в Думу.
И вот, дождались, накликали
Беду, что давно витала.
Флейтиста – на время в клинику,
Ракету – в приём металла.
Наутро в подъезд загаженный
Явились медбратья дюжие,
Здорового быта стражники,
Вязать и спасать недужного.
Вломились, а он – на крышу,
В ракету, и люк захлопнул.
Потом приключилась вспышка,
И стекла в подъезде лопнули.
Что было? Одни догадки.
Пресс-центр объяснить не может.
В газете писали кратко,
Мол, был смутьян уничтожен.
Но правды никто не знает,
Лишь только расскажут дети,
Что рыжий флейтист играет
Теперь на другой планете.
Конечно, детям не верили,
Но факт оставался фактом,
Случайно или намеренно
Чудак запропал куда-то.
Ушел, а внизу остались
На кухнях пустые споры,
И жизнь с эпилогом «старость»
Из длинной цепи повторов.
Работа, зарплата, отдых,
Орбиты колец кружение,
И небо над крышей в звёздах,
Как вызов…, как приглашение.
В коконе прогорклом никотиновом,
В стареньком потертом пиджаке
Шел поэт дворами и квартирами.
Шел один, без музы, налегке,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу