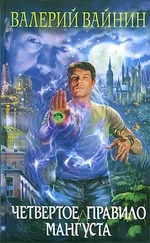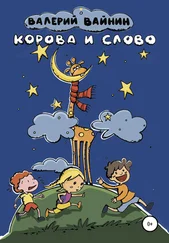Сколько вертится земля,
шут играет короля.
Просто смех.
Но, хоть жизнь порой крута,
королю играть шута —
тяжкий грех.
В бестолковой суете
верить розовой мечте —
просто смех.
Но в грязи, в беде, в бою
растоптать мечту свою —
тяжкий грех.
Когда я способен упасть на колени
и каюсь в гордыне, покорный судьбе,
меня обступают знакомые тени
и требуют властно вниманья к себе.
Наполнив пространство волненьем бесшумным,
упрек обращают в разящий кинжал.
Ну что мне ответить отважным и умным,
которым я с детства, как мог, подражал?
Теням не расскажешь слезливого вздора
о том, как устал я рассеивать мрак:
они персонажи иного фольклора,
где счастлив не станет ленивый дурак.
Конечно же, в споре я с ними любезен,
дрожащие руки держу за спиной.
Не в том закавыка, что спор бесполезен,
а в том, что им тошно водиться со мной.
Глаза их сверкают, нахмурены брови.
Похоже, от них я позорно сбегу.
Ведь я, непутевый, из плоти и крови,
высокую драму играть не могу.
Чего же вам нужно, суровые тени?
Мои оправданья не так уж важны:
не в том закавыка, что пал на колени,
а в том, что при этом запачкал штаны.
Я с вами равняться не в силах, поверьте.
Мне удаль такая едва ль по плечу.
Поэтому даже от холода смерти
я в мир ваш прекрасный уйти не хочу.
Добро в мире вашем всегда торжествует
(над этим, взрослея, шутил я не раз).
И все же отрадно, что он существует,
и я опираюсь в паденьях на вас.
Дразня фигурой гибкой,
прохладным вечерком
она брела с улыбкой
по лужам босиком,
и не могли мужчины
взять в толк, чёрт побери,
как можно без причины
светиться изнутри.
Брела она без смысла,
счастливая притом,
и вслед взирали кисло
красотки под зонтом.
Завистливо и чётко
с нечаянной тоской
звучало «идиотка»
сквозь гомон городской.
Увядшие румянцы
почуяли скандал,
однако, дождик в танце
её сопровождал,
нападкам ставя блоки
и дурь держа в плену,
чтоб уберечь от склоки
озябшую весну.
Почтеннейшая публика,
пожалуйста, потише.
Мы просим извинения
за маленький курьёз:
наш клоун незадачливый,
объявленный в афише,
под звуки громкой музыки
скопытился всерьёз.
Чувствительная публика,
не плачь по жалкой тени:
стяжает лавры фокусник
на празднике твоём.
А этот шут гороховый
скончался на арене,
чтобы внести в комедию
трагический приём.
Он позой неестественной
привлёк к себе вниманье.
Но, господа хорошие,
винить его грешно:
ах, мог ли он рассчитывать
на ваше пониманье
в момент, когда решительно
всем стало не смешно?
Ему теперь ужимками
не властвовать над залом,
не прятать свои колкости
в улыбочках кривых,
ведь, скажем прямо, клоунов
в запасниках навалом,
забавных, обаятельных,
а главное – живых.
Сиятельная публика,
ты не осиротела,
билеты сохраняются,
спеши занять места.
Программа продолжается:
сначала – вынос тела,
а дальше – по сценарию,
без этого шута.
По цветам порхая среди мошек
на исходе солнечного дня,
незнакомка в платьице в горошек
с беспокойством смотрит на меня.
Ветер пьян от запаха шалфея,
небеса пронзительно чисты.
Не тревожься, маленькая фея,
я не рву из прихоти цветы.
Собирай нектар неутомимо —
я тактично буду, как слепой,
в стороне прогуливаться мимо
многократно хоженной тропой
и к тебе не мыслю подольститься.
Но, когда вдруг станет горячо,
не могла б ты тихо опуститься
на моё поникшее плечо?
А пока средь бабочек и мошек
чудеса твори без суеты
и, мелькая платьицем в горошек,
опыляй июльские цветы.
Не защищенный почтовым конвертом
и среди мусора ангельский чист,
в облаке пыли, подхваченный ветром,
мчался тетрадный исписанный лист.
Может, летел он в далекие страны,
где многоликая властвует ночь,
мрачным посланием Фаты-Морганы
к другу-волшебнику с просьбой помочь?
Или в задорном спортивном азарте
вырвался он из мальчишеских рук,
чтобы в окошко к соседке по парте
пылким признаньем обрушиться вдруг?
Ветру послушный и полный отваги,
тайну свою унося навсегда,
мелко исписанный листик бумаги
птицей стремился не знамо куда.
Читать дальше