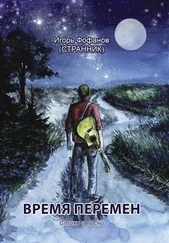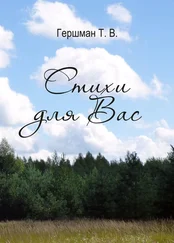Два сердца, твоё и моё,
во время злой разлуки
связует тайный поток
низкочастотных звуков.
Неви́димы для других,
радиоволнам сродни,
они звучат в сердце-
приёмнике. Включи и жди.
Когда помехи в пути
контакт наш блокируют,
в сердце другого сразу
и нередко пульсируют
«тук-тук» и «что-то не так»,
и мысли уже в эмфазе —
что есть «что» – ищут
приём возврата связи.
А если не удаётся,
то сердце обеспокоено,
скулит, ища решения.
Оно уж так устроено.
Вечные Вера-Надежда-Любовь
Корабль любви
рассветы ждут,
закаты – вдохновись,
тайфуны, пираты,
пороги, мели —
крушений берегись.
Три лоцмана
при двух пассажирах
на нём – благодари.
Осень в подмосковном парке
Желтеют листья клёна,
ещё не выпал снег…
На лавке чуть задумался
любимый русский человек…
Пейзаж – как та икона,
которой век шестой:
мала, а радует истинным
размахом и щедротой.
На диво чи́сты краски…
слегка златятся волоса…
С лица снимает маску,
творит с сутью чудеса
стихийная глубь чувств
задумчивой чуткой души —
отзы́в манящего звучания
подмосковной этой глуши.
Настрой лучист и волен.
То русскость из века в век,
разгадке не властная
и тож – делению на спектр.
И в грусти-печали,
и в юном задоре,
не южным пылом,
а лёгкой поступью
всегда сердцам
людей милая,
на все века
упруго-молодая,
шелко́во-ласковая
берёзка-жена.
Природы русской
поэзия зелёная,
кудряво-пышная
пришлась по нутру:
согласной грацией
глаза радует
одухотворённая
и белотелая,
и тонконогая
её красота.
Калужский бор – персонаж
никак не желтеющий наш —
высок, вековечен, хвоист,
ветвист и, конечно, чист,
он соком полн, душист,
для памяти массажист.
Хотя молчит фаворит,
а иглы всегда вострит.
День творчества в Гурзуфе
Улыбка в мажоре
наполнила дом
дыханием моря.
Налёт солёный
хранился долго,
свежил мудрёно.
За близость храма Джвари
Луна ревновала меня
и розовый храм ретиво
светила жёлто-синя.
Ущербная просчиталась,
сронила жемчуг с чадры
на купол дымчатой горы
у встречи Арагви и Куры.
Жалея о промашке, наслала
янтарно-синий туман,
расплавив в нём картину,
и кинула в свой карман.
Виденье-призрак скрыла,
прервав вековечный спор
волшебной Азии и Европы:
«Здесь Азия», – кончила разбор.
Сказала, чадрой заслонясь:
«Магической будет ночь.
Забудь из красав красавицу,
уйди, чужеземец, прочь».
Как чёток контур гор
в серебряном лунном свете.
В долине сверкает река,
аул – в нереальном цвете.
Явилась Царица Ночи
прилечь в безмолвии покоя
среди лесистых громад.
Воительница какая!
Легла великанша статная,
никак не тревожа гнёзд,
с собой положила рядом
алмазное ожерелье звёзд…
видна всецело стала
как смертная… устала, бродяжа…
величия, грации не скрыть
плечам поникшим даже…
совсем недолго подремав,
торопится ало-голуба́,
водой ключевой умылась
росисто-бодра-озорна…
в длиннющие буйные волосы
секреты звёзд вплела,
огромные глаза лунными
лучами подсветила, полна
парадной красы… в воздухе
студёном тая, хохочет…
И только шлейф мелькнул
великой Царицы Ночи…
На той горе, где Парфенон*, больше в тысячу раз,
пленяет самых дерзких красотой своею стройной,
застыл я. Казался храм парящим надо всем,
что конфликтует-ненавидит-любит-трудится-гадает
вчера-сегодня-завтра с их заботой о насущном.
Он плыл куда-то в синь, гордый, светло-неземной.
От выси и счастья пьян, я стоял, заворожённый
виденьем этим радужным, а потом спросил несмело
богов, что были рядом, на другой горе – Олимпе:
«Бессмертье разве существует?» Они не отвечали.
Без мудрого ответа понял я, что существует:
творенье времени, любви – да… как… Парфенон.
Читать дальше