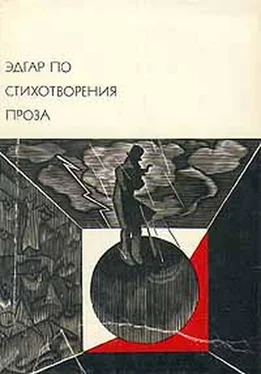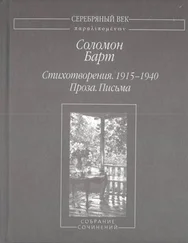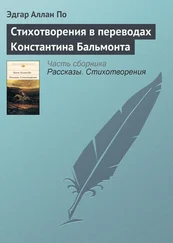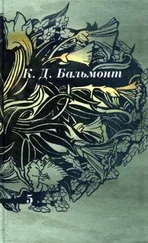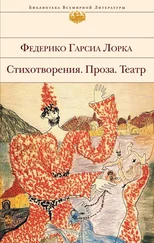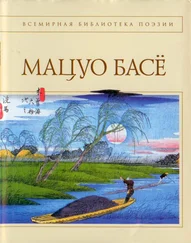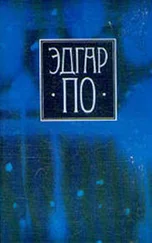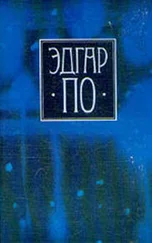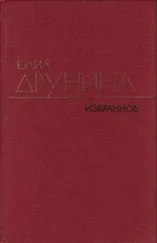II
Слышишь к свадьбе зов святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
И блестят,
Из волны певучих звуков на луну они глядят.
Из призывных дивных келий,
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят.
Вновь потухнут, вновь блестят
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов!
III
Слышишь, воющий набат,
Точно стонет медный ад!
Эти звуки, в дикой муке, сказку ужасов твердят.
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь.
Прямо в уши Темной ночи
Каждый звук,
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг, —
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, не способные звучать,
Могут только биться, виться и кричать, кричать, кричать!
Только плакать о пощаде
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!
А меж тем огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Все горит,
То из окон, то по крыше,
Мчится выше, выше, выше
И как будто говорит:
Я хочу
Выше мчаться, разгораться, встречу лунному лучу,
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!
О набат, набат, набат,
Если б ты вернул назад
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,
О котором ты вещаешь с плачем, с воплем и звеня!
А теперь нам нет спасенья,
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!
Твой призыв,
Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность,
То растет беда глухая, то спадает, как прилив!
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!
IV
Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон.
Звук железный возвещает о печали похорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный,
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон,
Скорбный, гневный
И плачевный,
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.
Тамерлан(стр. 76). — В сборнике 1827 г. поэма насчитывала 406 строк, однако уже в следующем сборнике она получила практически окончательный вид, который и публикуется здесь с учетом позднейших небольших авторских поправок. При первой публикации поэма была снабжена небольшими комментариями По. Воспроизводим одну заметку, проливающую дополнительный свет на произведение:
«Немногое известно о Тамерлане, и я использовал это немногое с полной поэтической свободой. Более чем вероятно, что Тамерлан был потомком Чингисхана, однако в популярном представлении он — сын пастуха, своими силами достигший власти. Умер Тамерлан в 1405 г. во времена папы Иннокентия VII. Как объяснить, что я ввел в поэму святого отца, которому Тамерлан исповедуется на смертном одре? Я не! могу решить это с определенностью. Ему нужен был кто-то, кто бы выслушал его повесть, — так почему не святой отец? Это не выходит за рамки вероятного, вполне служит моим целям, и, уж во всяком случае, это нововведение опирается на солидные авторитеты». Многие биографы считают, что в поэме отразилась история юношеской любви По к Саре Эльмире Ройстер; предполагавшийся брак был расстроен родителями молодых людей.
Эмоциональный настрой, форма исповеди-монолога героя перед смертью, ритмический рисунок, создаваемый четырехстопным ямбом, сближают «Тамерлана» с «Мцыри» М. Ю. Лермонтова и свидетельствуют об относительном типологическом единстве романтического искусства.
Тамерлан правильнее Тимур-ленг, т. е. Тимур-хромой (1336–1405) — средневековый восточный завоеватель, известный своей жестокостью, основатель обширного государства в Средней Азии с центром в Самарканде.
Иблис — дьявол в религии ислама.
Аль-Аараф(стр. 82). — Поэма написана, по-видимому, в период пребывания По в армии. Касаясь ее замысла в письме к Айзеку Леа — одному из компаньонов балтиморского издательства «Кэри, Леа энд Кэри», в мае 1829 г. Пописал: «Предлагаю Вашему благожелательному вниманию поэму… Она называется «Аль-Аараф» — от арабского Аль-Аараф — пространства между Небом и Адом, где люди не несут наказания, однако и не достигают еще того покоя и даже счастья, каким, как полагают, отмечено небесное блаженство… Я поместил этот «Аль-Аараф» на знаменитую звезду, открытую Тихо Браге, возникшую и исчезнувшую столь внезапно, — она как бы является звездой — посланницей Божества и, в момент открытия ее Браге, совершает паломничество к нашему миру. Одна из особенностей существования на Аль-Аараф такова, что даже после смерти те, кто избирают эту звезду в качестве своего местопребывания, отнюдь не обретают бессмертия, — но после второй жизни, исполненной высокого волнения, погружаются в забвение и смерть… Я вообразил перенесенными на Аль-Аараф некоторых хорошо известных героев века, когда звезда возникла на горизонте — а именно Микеланджело — и других, — но из них пока появляется один Микеланджело».
Читать дальше