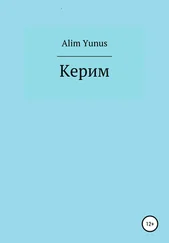porque duermes en mí y estás dormido 16.
Торсы поющих парней блестели
на East River’e и на Bronx’e:
масло, колесо, кожа и молот.
В горах тысячи шахтёров серебро долбили,
а детки рисовали лестниц перспективу.
И никого ко сну не клонило,
никому идея стать рекой в голову не приходила,
никто не страдал от избытка любви
ни к листьям травы, ни к синему пляжу.
Парни с машинами соревновались
на East River и на Queensborough.
Евреи с фавном речным торговались,
как подороже продать розу своего обрезанья.
А небо носилось по мостам и по крышам
стадами погоняемых ветром бизонов.
И никого желание не прельщало
ни облаком стать на простыне небесного одеяла,
ни броситься на поиски папоротника,
ни желание найти жёлтое колёсико тамбурина.
Когда же выходит луна – то мутнеет небо
от визга ремней передач, от шестерёнок скрипа.
Память загоняют в ограду – шипы да колючки,
а не работающих – в гробы; их всегда в избытке.
Ответь мне Нью Йорк – город гнили и тины,
ответь мне Нью Йорк – город колючей смерти,
что за ангела тайного, ты за щекою прячешь?
Чей голос расскажет нам правду колосящейся нивы
Кто нам поведает сон (свой) о поруганных анемонах?
Ни на одно мгновенье, прекрасный старик, Walt Whítman,
не покидало меня виденье,
ни твоей бороды, полной бабочек шаловливых,
ни твоих, потрёпанных луною, шершавых локтей,
ни мускулов твоих, о Аполлон непорочный,
ни голоса твоего – смерча из пыли и пепла
я не позабыл, чудесный старец тумана,
чей вздох, схож со щебетом птицы,
что сама и не самец и не самка.
Ни на одно мгновенье, тебя, врага лозы и врага сатиров,
мужественного красавца, не позабыл я, тебя —
любителя мужеского тела, спрятанного под грубой веригой,
тебя, что мечтал посреди отвалов угля и разъездов железнодорожных
стать рекой, утолить сон реки,
разделив его с другом случайным, чья боль
на мгновение и твоею болею стала б.
Ни на одно мгновенье, о новый Адам из плоти и крови,
одинокий пловец в море, прекрасный старик, Walt Whítman,
не позабыл я. Ибо. Так как. Потому что. Чтобы
эти подстилки, эти бляди,
что кучкуются, по прокуренным сальным барам,
что как грозди бегут врассыпную, почуяв опасность,
что лижут ноги дальнобойным шоферам, накурившись
и пропахнув ядом абсента, эти maricas 17,
не смели… А ведь они и тебя к своим причисляли:
“Он тоже”! “Он тоже наш”! вопят и кончают
на волосы твоей бороды лучезарной.
Северные блондины, карибские негры пляжей,
толпы вопящих, сквернословящих, котов похотливых,
змей, извивающихся в конвульсиях сладострастных,
с глазами мутными от слез, плоть для плети,
из тех, что лижут сапог укротителя;
эти maricas, Walt Whítman, сказать посмели:
“Он тоже”! “Он тоже наш”! – сказали и пальцами тычут,
подбираясь к твоей мечте, в которой
друг твой надкусывает яблоко, поднесенное тобою – ему;
яблоко, что отдаёт потом и пахнет бензином;
к твоей мечте, в которой солнце
лучами ласкает торсы мальчишек,
играющих в свои игры у реки под мостами.
Никогда! Ты не искал ни глаз воспалённых,
ни гнили болотной, в которой исчезают дети,
ни ядовитой слюны,
ни плоти скользкой, как брюхо у жабы;
ты не нуждался в услугах maricas, которых луна
безжалостно загоняет в углы темноты и страха.
Ты искал плоти, которая бы твоею рекою стала.
Ты жаждал тела, подобного одновременно и быку и сновиденью,
колесу и лиане; тела – прародителя агонии и камелии смерти,
тела, что вздрагивает покорно в пламени твоего зенита.
Что ж! не каждому суждено искать наслажденье
в ложбине завтрашнего утра – кровавая сельва.
И не случайно у неба есть свои заповедные рощи,
в которых жизнь не заботится о своём продолжении.
Ах друг мой, что нам этот мир: мир растленья и смерти!
Попытка забыться во сне – и опять смертная мука!
Мертвецы разлагаются под часами городской ратуши,
миллионами крыс проходит война, плача кровавыми слезами,
счастливчики дарят своим любимым младенцев —
новое пушечное мясо;
и жизнь ни прекрасна, ни возвышенна, и ни свята.
Что с того, что есть люди, которые умеют
направлять своё желание в русло коралловой вены.
Завтра и их любовь застынет криком в скалистом камне,
и их Время пробежит ветром в ветвях беспокойных.
Как бы там ни было, старина Walt Whítman,
я не брошу камня ни в мальчонку,
которому приснилось, что он девочка,
и что пишет её имя слюной на подушке;
ни в подростка, что в духоте платяного шкафа
примеряет платье невесты, ни в женатого холостяка
что пьёт желчь продажной любви в плюшевом притоне,
ни молчаливых мужчин с похотливым взглядом,
чьи уста сожжены пороком мужеложства.
Но я поднимаю свой голос против вас, maricas!
вас, городские суки!
Против ваших нечистых мыслей и вашей прогнившей плоти.
Против вас, ночные гарпии, прародительницы тлена,
вас, недруги любви, несущей людям радость и веселье.
Против вас, что безжалостно спаивают подростков,
вливая в них капля за каплей яд непристойной смерти.
Против вас, maricas всего мира,
как бы вы себя там не называли*:
Faeries в Штатах,
Pájaros в Гаване,
Jotos в Мексике,
Sarasas в Кадисе,
Apios в Севильи,
Cancos в Мексике,
Floras в Аликанте,
а в Португалии Adelaidas.
вас, губители голубок,
дамские прихвостни, болонки их плюшевых будуаров.
вас, где бы вы не торчали,
на душных площадях ли, в ледяных ли ландшафтах цикуты;
в какое обличие бы Вы ни рядились.
И не ждите пощады – смерть
уже течёт из ваших глаз,
питая серые цветы по берегам мутной трясины.
И не ждите пощады – тревога
уже прозвучала,
и повсюду вам преграждают путь
все: правые и неправые, и те, кто еще вчера сомневался;
путь к вакханалии и ко вселенскому блуду!
А ты, Walt Whítman, красавец мой, спи себе на берегах Гудзона!
Спи, разметав бороду до полюса и раскрыв руки.
Твой зов – мягкая глина ли, снег ли – товарищами услышан,
и они бдят, охраняя сурово твои бесплотные газели.
Спи! – перепаханы прерии, и в Америке кроме машин,
шумных машин и глухого рыданья ничего не осталось…
Я надеюсь, что ветер,
ветер, поднявшийся из глубин океана, размечет
цветы и слова над твоим надгробьем,
и что чернокожий мальчишка
объявит во всеуслышанье:
царство колосящейся нивы… наступило!