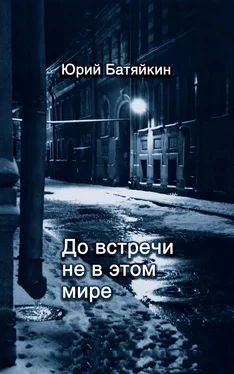где так хочется лета, какого угодно лета,
с тишиной под мостами, согретой дыханьем Феба,
с силуэтом собаки, бегущей стезей поэта
под алмазной короной чужого ночного неба.
«Мой милый пес! Как грустно мы живем!..»
Мой милый пес! Как грустно мы живем!
Как все у нас привязано к причине…
В последний раз мы собрались втроем,
и то, благодаря твоей кончине.
Течет со стен невыносимый час.
Тупые рыла в смрадном коридоре.
И та, что вечно связывала нас,
впервые в жизни не скрывает горе.
Тебя мы оставляем на чужих.
Спускаемся по лестнице, как тени.
Ты, все сносивший молча, больше жив,
чем я, не замечающий ступени.
Нет больше пса. И кости сожжены.
И на подушку ты ко мне не ляжешь.
И, ставший в мире тише тишины,
«Люблю тебя» во сне уже не скажешь.
Когда-нибудь ты станешь человек,
построишь тоже где-нибудь избушку.
А я, к тебе прибившийся навек,
тихонечко пристроюсь на подушку.
«Прекрасна жизнь! Но слишком коротка…»
Прекрасна жизнь! Но слишком коротка.
И грустная – до помутненья взгляда.
Ты умер, друг. А я живу пока.
Хоть неохота, но кому-то надо.
Уже февраль. Здесь все идет к весне.
Мы скоро бы поехали на дачу.
Ты лапой обнимал меня во сне.
Ты понимаешь, почему я плачу?
Теперь со мною спит лишь твой портрет.
Лишь дух твой грустно бродит по квартире.
Но для меня – меня на свете нет.
А ты, как воин, пребываешь в мире.
Воскресни, Пёс! Я за тебя умру.
Как раб, смирюсь с любой своей судьбою.
Ты был со мной так ласков поутру,
что всё – ничто в сравнении с тобою.
Всегда казалось мне, что мы – друзья.
Но понял я, среди печали многой,
ты – был моим хозяином, а я
был лишь твоей собакою двуногой.
«Невероятно – как поменялся свет…»
Невероятно – как поменялся свет.
Перед отчаяньем – все на планете муть.
Нет ни подруги, и нежного Пёски нет —
Лишь бесконечный немыслимо скучный путь.
Как одиноко! Хоть бы какой мураш…
Помнишь, как было нам на земле троим?
Все набекрень. Пред глазами сплошной мираж:
вот Иегова на нуре. Спешит к своим…
Вечер в пустыне. Можно ложиться спать.
Тихо. Заумно только бархан скрипит.
Здесь можно выть. И хоть где попало, сс. ть.
Даже змея со скуки не зашипит.
Нет здесь сирени. Пустынное – не цветет.
Утром обратно плестись по песку с мешком.
Ты будешь сниться, покуда не рассветет,
как мы шагаем домой по шоссе с дружком.
«Любовь моя! Как грустно стало жить…»
Любовь моя! Как грустно стало жить…
Как больно засыпать и просыпаться,
как тяжело ничем не дорожить,
и, как листве, гореть и осыпаться.
Ты помнишь, между мною и тобой
чудесный пёс валялся на диване,
и ты еще была моей женой,
а я был бесконечно счастлив с вами.
Я вас любил. Мой восхищенный взгляд
не встретит вас нигде уже. И все же,
оглядываясь в прошлое, я рад,
что мы когда-то жили здесь, похоже.
Не хлопнет лифт. Не прозвучат шаги.
Не щелкнет ключ, и дверь не отворится.
Вы не войдете. Как себе ни лги —
а ничего уже не повторится.
Какими судьбами меня занесло,
какими судьбами туманными
на землю, где к счастью пути замело
глухими ночными буранами,
где жду я всю жизнь, как под снегом трава,
сияния солнца погасшего,
меняя отчаянье и боль на слова
из уст Аполлона уставшего.
Где сводит с ума мой бумажный дурдом
с прокуренным пасмурным мессией,
и дама с собачкой бредут под окном,
как шизофрения с поэзией,
где, сжав мое сердце, как грош в кулаке,
огнями кривляется улица,
и заблаговременно ноет в виске,
что пуля не дура, а умница.
Мои предки были поляками. Они приехали в Россию ради несбыточных надежд. Тогда многие в Россию стремились, как в Америку… Не знаю, проклясть мне их переезд или благословить его – для этого нужно понять разницу между несчастьем и счастьем, добром и злом.
Предки мои поселились в Казани. Не взирая на свое дворянское происхождение, открыли кондитерскую, быстро ставшую популярной. Революция еще только назревала. Все почему-то ждали от нее перемен к лучшему. Бабушка моя, Александра Константиновна Крагиновская, вскоре вышла замуж за хлеботорговца, Георгия Григорьевича Батяйкина, происходившего из сибирских казаков. У них родилось четверо детей. Бабушка была красавицей, дед – предприниматель от Бога.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу