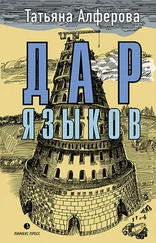Скорее, запах солнца в сгибе локтя.
Посвистывая в дудочку, бредет
беспечно память по дорожке ломкой.
Как девочка больная – то поет,
то плачет, то пугается до крика.
И силится понять, но не поймет,
что от нее хотят. И голубика
безумных глаз подернутых кругла.
А дудочка – отрывистей и дальше.
Глазами провожают до угла.
Потом не видно.
С табуретки даже.
О чем забыть? Так сразу и не вспомнить.
С дождя начну, пожалуй. Да, с дождя,
навязшего до яблочных оскомин
(плыл аромат антоновки из комнат),
мы свет не зажигали, приходя.
О чем еще? О гневе электрички,
Вспухавшем ярко-алой полосой
всё мимо дома с падающим криком,
как выдохом: «Домой хочу, домой!»
О еженощных бдениях под крышей,
о черной кошке, что сама пришла,
о тех словах, что на свету не слышим,
привычке – к ужину прибор поставить лишний,
о колченогой вздорности стола.
О том, как на пол падали предметы,
когда калитка принималась ныть,
как застывал в пути полунадетый
намокший плащ, как ворохом газетным
пытались печь немного протопить.
О голосах под гладким бересклетом,
о запахах, о пустоте дорог.
Как обещало что-то наше лето.
И не исполнило. И умерло в свой срок.
«То ли сигаретный привкус…»
То ли сигаретный привкус,
то ли о тебе память.
А луна торчит – фикус,
словно среди льдов Папанин.
На пол всё летит книжка.
Долго так летит, плавно.
Стрелочка часов ниже
уползла: рассветом поплавать.
Под землей бежит провод
телефонный (потрудись, ну-ка!)
Уголками губ тронуть
разбудившие рассвет звуки.
«Не звала гостей, хозяйка, ввечеру?..»
Не звала гостей, хозяйка, ввечеру?
А зачем ходила в воду глядеть?
В неразбуженном высоком бору
принималась песни странные петь?
Обронила из косы гребешок,
растревожила травы забытье.
Слышишь, в печке заиграл уголек,
заварилось колдовское питье.
То не с желтым клювом пестренький дрозд,
то не конь всхрапнул – балуй! – у ворот.
Что за чудный на порог всходит гость,
поднесенную чарку берет?
Ай, хозяйка, пропадешь, пропадешь!
Не за тем ходила в бор вековой.
Ты зачем на плечи руки кладешь?
Ах, хозяйка, Бог с тобой, Бог с тобой.
Месяц народившийся
слева колдовал.
Белая трава прокричала в ночи.
На огне оставленный
липовый отвар
фыркал в раскаленные кирпичи.
Сумасшедшей речкою
льется говорок.
Милая волшба напоит уста.
Приведут в дом серые
пальчики дорог
беглеца – поди, убегать устал.
Пряный привкус ягоды
на твоих руках.
Падает звезда в гулкое ведро.
Что же мы целуемся
впопыхах?
Двери уходящему
в темноту открой.
«Выкрою двух куколок – мятой набью…»
Выкрою двух куколок – мятой набью.
Мятой земляной и всякой травой.
Говорил вчера еще – не люблю.
Повяжу двух куколок бечевой:
голову на голову, ноги к ногам.
У калитки тропочку заплету.
Неужели думаешь – так отдам?
Изопьешь, голубчик мой, маету.
Не люблю – мне сказывал? А забудь,
как я обнимала, вереск вила!
Ты слова мои – по зернышку ртуть
соберешь, как мед тяжелый пчела.
С каждым шагом месяца, милый мой,
будет сердце жалиться обо мне.
Позабудешь, как это – быть домой,
плавает иголочка в полотне.
Ой, успеть бы затемно – скоро петух!
Что стежков – как родинок на руке!
Свет окрест (без света ярче) потух.
Белая плотвичка заиграла в реке.
«Уголек изменчивого русла…»
Уголек изменчивого русла,
воздухом – подковки, свет сухой.
В зелени мохнатой и огрузлой
кто-то шарит наугад клюкой.
Капли отрываются от неба,
тучи раскрывают вечный бор.
Из окна растягивает невод
тонкая свеча. Ведро. Топор.
Щелкает задвижка, лес отрезав.
Походи вокруг, забор высок.
Будет день колюченький и трезвый.
Пес залает. Острый след. Песок.
Немного осталось воды и земли.
Вот он, огонь, сладковатый тлен.
Ослик (на площадь на нем везли)
последним изведал ног моих плен.
Сок белладонны, пьянящая мазь.
Вижу – над крышами, в дальний лес,
с визгом и хохотом пронеслась
стая подруг по кочкам небес.
Разве раскаюсь я, кожей впитав
острые струи, полночный лик?
Что мне ваш потный жалкий пятак,
золото сыпавшей!
Ты, старик,
зелень усталости – знал когда?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу