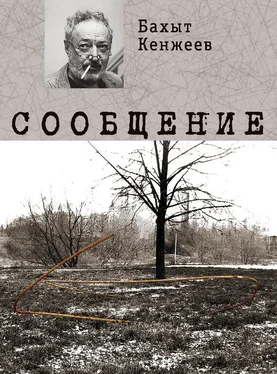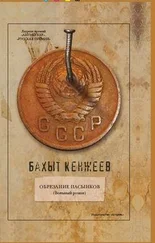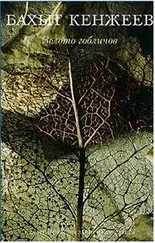Говорливый товарищ, апрель городской —
уходили снега, наливаясь тоской
и восторгом, полынь пробивалась
сквозь беззвучные трещины в мостовых,
не библейская, нет, потому что в живых
оставалась прощальная жалость.
Перелетные сны, и любовную явь
я умел, как ученый, исследовать вплавь,
по-собачьи, державинский мел
зажимая в зубах и довольно кряхтя,
с петушком леденцовым простое дитя,
а еще – ничего не умел.
Надо пробовать жить, коли выхода йок.
Снится мне вечный свет, православный паёк,
и другие бездомные вещи.
«Матерей, дурачок, – говорят, – трепещи,
по карманам веселия не ищи —
пусть полынью под ветром трепещет».
Нет, любовь, не состарился – просто устал.
Устает и младенец кричать, и металл
изгибаться. Как ласковый йод,
время льется на ссадины, только беда —
после тысячелетий глухого труда
и оно, как и мы, устает.
«Прошло, померкло, отгорело…»
Прошло, померкло, отгорело,
нет ни позора, ни вины.
Все, подлежавшие расстрелу,
убиты и погребены.
И только ветер, сдвинув брови,
стучит в квартиры до утра,
где спят лакейских предисловий
испытанные мастера.
А мне-то, грешному, все яма
мерещится в гнилой тайге,
где тлеют кости Мандельштама
с фанерной биркой на ноге.
1974
«Хорошо в лесу влюбленном…»
Хорошо в лесу влюбленном,
где листва еще легка,
и пологим небосклоном
проплывают облака —
верно, с тем и улетали,
чтоб избавить от печали,
чтобы в травах по пути
мать-и-мачехе цвести…
Лес шумит, но было б тихо,
если б не был майский склон
возле станции Барвиха
черной стаей населен.
Все ты высчитал и взвесил,
но одна загвоздка – в том,
что по-прежнему невесел
хрип вороний под дождем.
В светлых соснах мгла густая
в воздух пасмурный взвилась,
и кричит, перелетая,
тенью на землю ложась…
Как там сказано в балладе?
Nevermore – и боль в виске.
Не кричите. Бога ради,
на английском языке…
1975
«Всей громадой серой, стальною…»
«Sous le pont Mirabeau coule la Seine…»
Всей громадой серой, стальною
содрогается над Невою
долгий, долгий пролет моста.
Воды мутные, речи простые,
на перилах коньки морские,
все расставлено на места,
все измерено, все, как надо,
твоя совесть, как снег, чиста,
и в глазах сухая прохлада.
Это спутник твой – посторонний,
спутник твой тебя проворонил,
в плечи – голову, в землю – взгляд.
Осторожный, умный, умелый,
пусть получит он полной мерой,
сам виновен, сам виноват.
А над городом небо серое,
речка, строчка Аполлинера,
вырвусь, выживу, не умру.
Я оставлю тебя в покое,
я исчезну – только с тоскою
совладать не смогу к утру,
заколотится сердце снова,
и опять не сможет меня
успокоить дождя ночного
стариковская болтовня…
1975
Уладится, будем и мы перед счастьем в долгу.
Устроится, выкипит – видишь, нельзя по-другому.
Что толку стоять над тенями, стоять на снегу
И медлить спускаться с пригорка к желанному дому.
Послушай, настала пора возвращаться домой,
К натопленной кухне, сухому вину и ночлегу.
Входи без оглядки, и дверь поплотнее прикрой —
Довольно бродить по бездомному белому снегу.
Уже не ослепнуть, и можно спокойно смотреть
На пламя в камине, следить, как последние угли
Мерцают, синеют и силятся снова гореть,
И гаснут, как память – и вот почернели, потухли.
Темнеет фламандское небо. В ночной тишине
Скрипят половицы – опять ты проснулась и встала,
Подходишь на ощупь – малыш разметался во сне,
И надо нагнуться, поправить ему одеяло.
А там, за окошком, гуляет метельная тьма,
Немые созвездья под утро прощаются с нами,
Уходят охотники, длится больная зима,
И негде согреться – и только болотное пламя…
1975
Опять под лампою допоздна
желтеет бесплодный круг.
Одной печалью уязвлена,
давно моя жизнь от рук
отбилась… а память стоит за мной,
и щеки ее горят,
когда ревет самолет ночной
два года тому назад.
Одна разлука – а сколько слез.
Над городом ледяным
вставало солнце, в ветвях берез
сгущался зеленый дым,
рождались дети, скворец, как встарь,
будил меня поутру,
а все казалось – стоит февраль,
и мы – вдвоем на ветру,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу