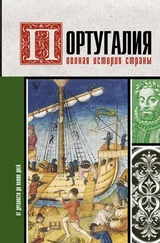То не ветер Володе —
двоюродный брат,
то не осень —
тройная сестра:
это ленинской кровью
безумен закат,
это птицы вороны,
как тряпки,
летят
и они же —
кричат
до утра,
мол, болит голова,
у Володи —
болит голова,
и не хочется
видеть в тетрадке
«Я в порядке,
в порядке…»
На закате сердцá превращаются в гроздья рябины,
в лёгкий шелест шагов по легко отлетевшей листве…
Скоро выйдет луна, скоро хватит луны половины,
чтоб увидеть лицо на твоей молодой голове.
Так теряют в реке не кольцо с безымянного пальца,
а своё отражение, ставшее вдруг золотым,
и от света поют, как восточные птицы китайцы —
холоднее луны, но теплее, чем тело и дым.
Над волосатой головой проводит ночь
своей луной, а водка, пламенем дыша,
летит,
как ласточка,
под кожей: не так ли двигалась душа,
когда
ты пил
одно
и то же —
в плывущей
рыбами
воде,
где лунный свет увидел где,
где
видел
женщину
врага,
она, как пальцы, дорога,
она
луна
такая
осеннего
Китая:
.
.
.
. здесь
.
.
. . . . .
Холодно в космосе. Звёздные брошки блестят? Лучшие
кошки на крыши приводят котят. Вот, говорят, посмотрите
как светит луна – так же светите народам во все времена!
Хитрые кошки… Не так ли и людям поэт должен нести
свой кошачий, несолнечный свет? Что я сказал только что.
Что я только сказал? Сам не пойму – только вижу кошачьи
глаза. Вижу усы и хвосты, и святую луну… Лунные звери,
позвольте я вас обниму! Вас обниму и скажу, и немного
пойму: стану стихами светиться в кошачьем Крыму!
Здесь начинается китайская поэма
про то, что всё вокруг —
китайская поэма,
где читатель не знает,
чья это как будто работа,
только есть в этом
жёлтое,
жёлтое что-то,
ведь в Китае, бывает,
болит от дождя голова,
и в далёком за чаем
вечернем Китае
полюбовно болеют,
играют
в золотистые ласточек-дочек,
в дорогие чаинок
слова.
А ты думал за чаем,
что нет,
не играют в слова?
Уверяю тебя,
что, конечно,
читатель,
играют! И глазами,
как дочки и птицы,
друг другу
моргают,
и негромко друг другу,
как тёплые деньги,
несут —
в знак сияния будущих
громких и ангельских труб —
стихотворные слепки
для губ.
«Добрый вечер, —
друг другу в стихах говорят,—
нам не нужно домой
на последний трамвай
торопиться,
если липа прилипла
плакучего цвета к стеклу,
если липнет чаинка
к упавшей на блюдце реснице,
если золотом чайная склеена чашка
навек,
если к мокрому дождику
хилая ласточка снится,
если вечер сегодня, а завтра —
четверг:
добрый вечер, а может, и ветер…»
Говорят
на китайском своём языке
(на закрытом в словах сквозняке),
словно птицы от боли поют
головы вдалеке
или мёд растворён в молоке —
на холодном за чаем, но сладком стишке,
непонятном, как ход муравья
по руке,
на звенящем китайском тебе языке
(от печальной Тавриды тебе
вдалеке),
словно мёд в ледяном
молоке.
Ну, а русский —
понятен язык,
потому, что от мамы
послушать ребёнком
в шелестении розовых гласных
слишком просто
привык напрямик.
Непонятно китайское слово.
А славянское слово —
понятно.
И сегодня коснуться
для мякоти столбиков пальцев
приятно —
в форме лиственной книги
или чашки, а может:
закладки в тетрадке —
и сегодня потрогать занятно,
то, в чём русские наши слова
не умеют ждать связного праздника
горьковато-которых стишков
(или праздника якобы осени
в лучшем ласточек месяца возрасте
сильно слабого, стало быть, августа),
просто ждать не умеют они —
тáк,
как праздника желтоволосого,
желтоглазого дворника солнышка
(желтоватого солнца луны,
отмыкавшего детские сны),
ожидать
горьковатого праздника
в стороне шелестящих ветвей
(желтоликого позднего узника
тёплой осени августа месяца),
ждать-пождать
шелестящего праздника —
на словах
собираешься
ты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
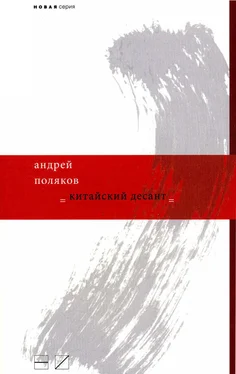





![Роберт Хайнлайн - Звездный десант [= Звездные рейнджеры; Звездная пехота; Космический десант; Солдаты космоса]](/books/333390/robert-hajnlajn-zvezdnyj-desant-zvezdnye-rejndzh-thumb.webp)