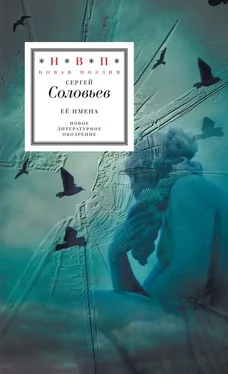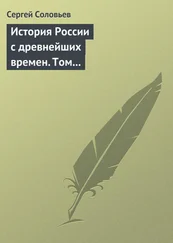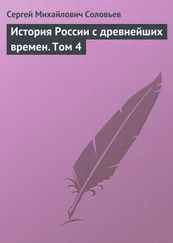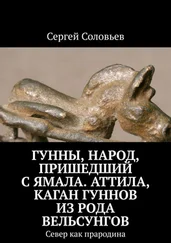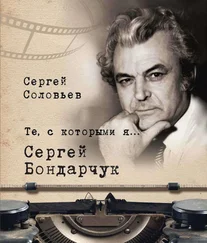Хорошо плохо слепленный человек
с устойчивой несовместимостью с самим собой,
был бы я безударным слогом, говорит,
только слово это уже не вспомнить.
Может быть, у цветов – свой Христос,
облетевший как одуванчик. Пух и прах
перелетного воскресенья. Евангелист пророс —
Иван-да-Марья. Свой у моли Яхве, свой у мух Аллах.
Думая, что мы уже начались,
и срослись в одно, и разбросаны по мирам,
и теперь не быть и любить тебя, и беречь, но как
это вместе свести, если мы с тобой – как рука
левая, если жизнь – правая, и не ведаем, что.
Если там между ними – ни тьма, ни свет.
Если тоненько так начинают петь брошенные тела.
Если мимо нас, проходя сквозь смерть,
говорят они: может, были б мы,
если б она была.
«Все потихонечку сойдут с ума…»
Все потихонечку сойдут с ума
на кровушку, на черную, на нет,
и наконец останется сама
с собой природа, и вздохнет,
и улыбнется – этот день
она ждала от сотворенья,
и чуть пригубит за людей,
не чокаясь, два-три мгновенья
пригубит. И проветрит дом
от неземного выспреннего смрада
их дел волшебных, чувств, и дум,
и перепрячет деревце из сада.
«Начинаешь себя забывать…»
Начинаешь себя забывать,
заканчиваешь, вернее.
Света легкая прядь
у обочины слов.
Или чувство такое – вермеер…
Или просто весло,
плывущее по реке
вспять. Но зачем?
Лес стоит в парике —
значит, осень. Рука на плече —
может, мать.
Только воздух прозрачен,
чтобы видеть, наверно,
и не понимать.
Разбрелись
и уже не вернутся
слова.
Что меж ними?
Чего ни коснуться —
щемь такая, тщета, нелюбовь.
И в ладонях твоя голова
чуть дрожит, как цветок полевой.
«Пойдем, моя девочка, моя мать и мачеха…»
Пойдем, моя девочка, моя мать и мачеха,
помолчим, побродим, как люди некие,
в тех краях, где живут башмачкины
полевые в припыленных шинельках,
где кульбаба с пижмою говорят, мол, с утра
кашка ларина вышла замуж, и с онегиным
мелкоцветным не по-летнему холодна,
где люцерны книжные в лютиках обрусели,
где трехлистные карамазовы с папенькой на одре
каменистом, и сурепка масляного воскресенья,
и один меж мирами плывет андрей.
«Двенадцать душ нас было…»
Двенадцать душ нас было,
считая с маленькими, нераскрытыми.
Он подошел и долго стоял с ножом,
разглядывая, трогая, выбирая.
И срезал меня.
То, что они называют «душа»,
осталось во мне. Но и на месте среза —
тоже. Он приблизил меня к лицу
и глубоко вдохнул,
но глаза при этом стали незрячи.
Да, так бывает при вдохе
внимательном и отрешенном.
А потом он отнес меня в комнату,
состриг мои колкости, обороны
лишил (капля крови на пальце)
и завернул в мертвое, шелестящее,
вышел. Я видела город,
и это было похоже на сон
после смерти: плыли, как титры,
люди, туннели, деревья, дома.
Я ладонь его чувствовала —
он старался держать меня нежно —
там, внизу, но порой забывался.
А потом – дверь открылась
и я перешла в другую ладонь —
маленькую невесомую,
и все покачивалась вниз головой,
пока эти двое так долго стояли,
прильнув друг к другу щекой,
как я когда-то.
А потом я стояла в воде по грудь,
на столике у кровати,
и пила, пила,
и они всё любили, пили друг друга,
и запахи наши смешивались
и не смешивались,
а потом она пела под ним, как плачут,
шепотом и почти без слов,
и такие же на плече у него царапины,
как от меня. А потом, наутро,
ушел. А она все ходила по комнате —
туда, сюда, останавливалась
рядом со мной, смотрела,
но тем же взглядом невидящим,
как на вдохе. И убывала
внутри себя, вниз убывала,
пила, пила… Воду меняла мне,
отходила к окну:
там на донышке, как и здесь.
А потом вынула и сложила вдвое,
но это уже я не очень чувствовала —
скорее, руки ее, чем себя. Руки,
ставшие вдруг тяжелыми, горькими,
так ей не подходящими.
Узелок завязала, вынесла с мусором,
я живая была еще – там, во тьме,
где не смерть страшна, а вот эти
локти со всех сторон и запах.
А потом было поле и горы тленья.
И последнее – промельк солнца,
маленького, как укол. Верней,
не солнца – того, что движет…
«Он думает, что я – его глаза…»
Он думает, что я – его глаза.
В расхожем смысле так и есть.
Мы все тут пчелы – я, ладони,
слух, подошвы, а пасечник —
за ширмой, в голове. Он думает,
что мною видит. Так и есть.
Но это далеко не все, что вижу я.
И далеко не так. Во сне, порой,
меж нами это поле оживает, но
не перейти его: нет третьего —
поводыря. Когда бы жизнь его
и память была равна моей,
наверное, мы были ближе к богу.
Он видит только то, в чем отражен,
но даже в этом так ничтожно видит,
и, как ребенок, руку тянет – взять,
роняя главное – что не берется.
Я помню всё, в чем он не отразился,
и всё, что он не взял. Я помню
тот поворот дороги, свет и голос,
чуть левей от взгляда… И судьба
могла б иною быть. Я помню
женщину, с которой он бы счастлив
был, одну на свете. Шли навстречу
они друг к другу столько жизней,
и вот, на расстоянии руки… И нет ее.
Я помню всё в ней. Я, не он. Похоже,
он что-то чувствует. Как я. И богу
не он предстанет – то, что между нами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу