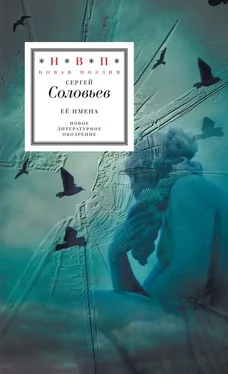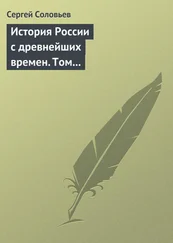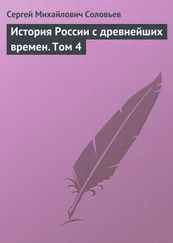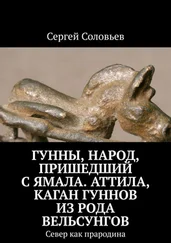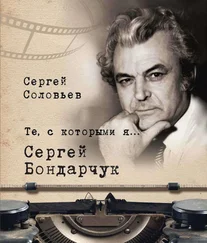«Горе тихонько смеялось…»
,
напялив тебя как куклу,
кланяясь тобой туда-сюда,
прислушивалось: не сломалось
ли что, поглядывало в тот угол,
где радость, казалось, еще жива,
зализывая себя, пока в одну точку
не уставилась, холодея.
Там они и сойдутся. Как в дочки —
матери играющая Медея.
«Проще пиши, говорит роща…»
,
веточки – по Шекспиру.
Так, чтобы я поверил,
говорит дождевой сирый
червячок Алигьери.
Почерк твой неразборчив,
шепчет в глаза осень
влажных от света строчек,
будто она из писем
тех, что уже не пишут.
Некому, да и нечем.
Трогай меня тише,
легче, бесчеловечней.
Что же тебя так водит
сверху, с краев и снизу
одновременно. Видит,
то есть теряет смысл.
Шатким, но без нажима,
богом пиши, словом.
Просто пиши, пиши нам,
дядя всего живого.
Ты ведь один в природе
письменный среди устных.
Ни для чего ради —
домик, окно, чувство.
Легче, как будто вышла
жизнь, ну а те – далече.
Трогает – выше, тише,
легче тебя, легче…
«Бегут, как живая тропа…»
,
с ломким шелестом крови сухой,
сцепленные,
как заржавленные крючки —
женщины,
длинноногие,
с запрокинутыми головами,
без глаз.
Всем народом бегут.
Всё, что мир им оставил —
лишь запах
и осязанье.
Бегут. Рвут на части
и давятся всем, что у них на пути.
Столько их, сколько нас.
Женщины многорукие,
девочки, ломкие, как секунды.
Видят его.
Он лежит,
огромен,
поводя крыльями,
цвета листьев запятнанных светом.
Они окружают его, ликуя.
Он – из тех, кто покинул их навсегда.
Он источает запах,
они чувствуют, как от него разит
будущим.
Виснут на нем,
ломают крылья,
лакомятся, возбуждены,
и вспять бегут,
над головой неся его,
как дирижабль.
И в доме
перед ней кладут.
Она его во тьме перебирает
у ног своих поющими руками.
Как Голгофа,
она – темна снаружи.
А внутри – светла утробой.
И он восходит на нее,
и женщины шевелятся, как буквы
черновика у их подножья.
Она с ним сделает все то, что
им не дано – их новый день.
И к выходу, на свет
сучатся письмена,
как кровь сухая.
«Иногда я вдруг останавливаюсь…»
,
отвожу взгляд от книги
и пытаюсь представить…
Например, как ее автор в лесу
разводил бы огонь:
его движения, взгляд, пальцы,
как он ищет древесную ветошь,
как возводит ее на земле,
партитура зазоров, касаний,
как живет предстоящее,
как он трогает память,
и насколько она беспокоит его —
вон та ветка, торчащая в сторону?
Как он входит в огонь —
как в любовь, или в дом,
или как снаряжают мертвых?
Как растит он его, и насколько
огонь его видит?
Не о технике речь, не об опыте,
а о чувстве единого, такте
меж ветошью, воздухом, светом,
теплом и рукой. Для начала.
И взгляд отвожу, возвращаясь
и ошибаясь рукой и теплом,
пока привыкают глаза.
«Корабль тонет у берегов Мальты…»
,
спасается лишь один – узник,
тот, кто против рожна шел.
А был мальчик
тринадцатилетний,
когда этот бог умер.
Мальчик он был, иудей из Тарса.
Но и эллин сказать мог: наш он.
Сын Торы и гражданин Рима.
Девственник, страстный
книжник и фарисей,
книжник, швец палаток для жизни на колесе.
Жил, взрослел, в городах и весях
изгонял христиан, как бесов.
И однажды, когда к Дамаску
шел, увидел он свет отвесный.
«Что ж ты гонишь меня?» – был с неба
голос тихий. Лицо, как маска,
чуть сместилось, упал, ослеп он,
и лежал, спеленатый в этот саван
света, а когда восстал и глаза отверзлись —
был уже он совсем не Савл.
Годы шли, распускался узел
жизни в вербное воскресенье,
и корабль плыл, но теперь он узник
той надежды, любви и веры,
гнал которых как бесов, они обвиться
всё норовили… Корабль тонет,
один он спасся. Мальтийский берег
пустынный, морось, к костру садится,
ладони греет, заводит руку
во тьму, чтоб хворост
подбросить, и вынимает ее, обвитой
степной гадюкой.
И рыбаки с опаской и деловито
глядят, как стряхивает ее он молча
в пламя. Ждут, когда ж корчи
его начнутся. Но озарен, пятится
тьма. Остров. Амен.
Но что-то над ним светится —
как апостроф.
Павел.
«Он обходит сад, на ремне у него ключи…»
,
на плече петух – то огнем взъерошен,
то трепещет, играя знамя.
Слева – пенье райское, а правей – звучит:
«Знаешь ты этого человека, сыном божьим
называющего себя?» – «Нет, не знаю», —
отвечает из тьмы его же
голос. И трижды так. И вослед, уже за крестом
опустевшим: «Пётр, любишь ли ты меня?
Любишь? Иди на голос», —
и ключи дает от небесных кущей.
Я простой рыбак, невелик умом,
хром душой и не тверд в ногах, оказалось.
Что ж ты, Господи, на таком
шатком камне возводишь храм —
пылком, да, на твоем, но таком пропащем.
Я и там с тобой, по волнам,
в след ступил твой, уйдя по пояс,
а когда ты, помнишь, ноги хотел омыть мне,
я отринул тебя, отпрянул, и тут же: Боже,
да хоть с головы до пят меня вымой! То есть
каждый шаг твой во мне событьем
отзывался прежде, чем я понимал, похоже.
И когда из темницы бежал я, и голос твой
преградил мне путь и вернул мне его – избыть,
и когда, не достоин тебя, просил
их распять меня головой
вниз. И смотреть на мир, где хватило сил
так любить тебя, и предать, и уже не смыть
этот грех. Как при жизни ребенком меня носил
перевернутым…
Круг за кругом обходит рай.
То ли нимб на нем, то ль блуждающая оправа
двуголосья: «Ты – первый, мой…»
и другой: «Передай, предай…».
И в святых глазах его свет спитой,
и конца нет ни пенью слева, ни бездне справа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу