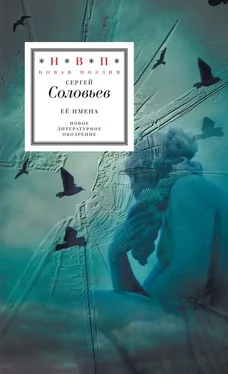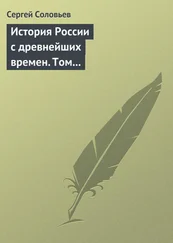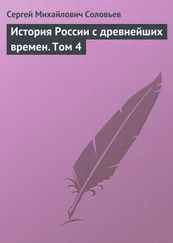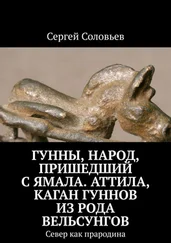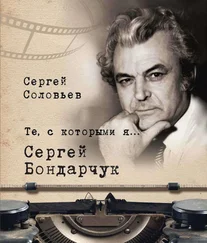«Так и зовут их обоих: Кириловка …»
—
и церковь, и странноприимный дом,
лицом к лицу стоят на холме одном.
Двенадцать санитаров, ведомых голубем,
ходят в скафандрах из огня да в полымя —
со стены, где писаны, да в застенки. Трубы ли
гибкие – от скафандров к голубю? Врубелю
он на грудь садится, санитары поют, лечат,
а потом задувают его и себя, как свечи,
и возвращаются в церковь, где он их пишет.
Голубь то в сердце его, то в смерти – дышит,
где хочет. Даже там, в могиле, где с пальчиком
поднятым сын лежит, маленький, с заячьей…
Даже там, где любовь – пьета. Даже там,
где всё кончено и не начато. Стыд и храм.
Демон кружит над тем холмом, не воротится,
да и некуда: губы детские, а глаза – богородицы.
Тем,
чтоб разделенной быть
и приумноженной —
как жизнь?
Но есть другое в ней:
она играет,
как свет в воде,
в тебя,
а мысль одна —
бежать, бежать, бежать…
Но как преодолеть
ее приговоренность?
И горизонты
сменяются по сторонам,
как вертухаи.
«Как же оно работает, это внутреннее пространство…»
Как же оно работает, это внутреннее пространство,
когда центры тяжести так разбросаны,
перестраиваясь без твоего ведома,
просто кто-то идет по следу твоей памяти, воображенья,
и перестраивает, подхватывая на ходу,
спасая от обрушений.
А потом приходят отец с матерью —
в одном лице без лица —
и собирают эти разбросанные игрушки:
спи, ребенок, расти в другое.
Но этот «кто-то» еще идет за тобой по следу
вспять.
«Куда ни глянь – всё кончено…»
Куда ни глянь – всё кончено:
ребенок, дерево, душа…
И крыса мечется, визжа
без звука. Как любовь.
И кто-то вдоль обочины
идет, свою улыбку ловит
сачком в траве. На лоне,
якобы. Слепой, как счастье.
«Трудный день, неизъяснимое снилось ему, муравью…»
Трудный день, неизъяснимое снилось ему, муравью.
Если бы он назвать это мог, он бы сказал: люди,
смерть, бог, анатомия, корабли, города, книги…Лев
толстой, например. Но этих слов он не понимал,
и всё стоял, как в ступоре, глядя на торопливо снующих
своих соплеменников. Лес просыпался. Лапа подрагивала.
Или «любовь», например. Один на тропе, смотрит
в небо, поскрипывает забралом, и поделиться не с кем.
«Мысль о дороге лежала, раздвинув ноги…»
Мысль о дороге лежала, раздвинув ноги,
солнце над ней висело в своем самадхи.
Жизнь – как расходящийся шов: наги
нитей танцуют. На голове мешок
неба. Свет шаткий с дудочкою наитья
шел. Мир как мир – имитировал схватки.
Я отмеряло себя неуемных семь
дней, и за один отрезало. От лица.
Шестипалое чувство нашло семью.
Лучше бы не свою. Осень во всей красе,
как покойница, переписывается.
Камень в Петра играет – один в раю.
«Оплодотворители были. Силы растяжения были…»
«Оплодотворители были. Силы растяжения были.
Порыв внизу. Удовлетворение наверху. Откуда
возникло это творенье: может, само себя создало,
может, нет. Лишь тот, кто в небе над миром, знает.
А может, не знает и он?» – говорит Ригведа.
Нет сюжета у жизни, полый стаканчик света
с миром, напяленным на него для шитья-бытья.
Просто какой-то порыв снизу. Встречный ли?
Как сообщения неотвеченные —
люди, снега, порывы, божья галиматья…
Силы растяжения тебя во мне
провоцируют нас на сжатие. Чтоб сошлись.
Мы и сходимся. Может быть. В стороне
от нас. И на это уходит жизнь.
«Не к утру, но уже в обозримые времена…»
Не к утру, но уже в обозримые времена,
на земле останутся двое – он и она.
И не то чтобы не любовь, но – проём.
Не совсем его она, да и он – не ее.
Местность хрупкая, как стекло.
Что ж так тихо здесь и светло?
Что ж влечет их друг к другу так
словно дело не в том, не там,
что зияет меж ними, и что одни,
что исчезли из мира слова и дни,
и не помнит ладонь своего тепла,
и не линия губ – deadline,
только что это значит? И чья вина?
Взял на руки ее, а она – вода
в решете. А обнимет его, и он —
словно глина плывет. Как сон,
ускользающий на свету,
друг для друга они. В роду
нет у них ни людей, ни птиц,
ни цветов. Может, даже лиц
нет у них. Но не им двоим
это знать. И стоит, как дым,
бело-деревце, красный глаз.
Впрочем, было все это, и не раз.
«Хорошо плохо слепленный человек…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу