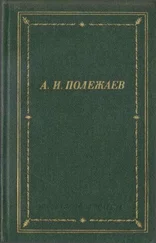Твой белый лик был бабушкой зацелован.
Вымя твоё светилось в хлеву, как Иисуса тельце.
Ты молоком поила даже свирепого зайцелова
кота Заломайко (уши заломаны в детстве).
Тебя бы по справедливости в красный угол,
а ты коченела всю зиму костлявою ряскорякой.
А по весне тяжело уходила от плуга,
а тот планету держал как якорь.
Говорят, будто Будда в одном из своих превращений
сам на себе испробовал эту шкуру коровью,
вот оттого-то и нет у индусов скотины священней.
Только и Русь к ней, корове, с дочерней любовью.
За потраву чужого овса проткнутая жердью,
Икона лежала за гумном в крапиве
и молча мучилась перед смертью,
а обломок жерди качался в боку, как бивень.
Не стало Иконы, мир стал для бабушки шаток.
Не молиться же на маслозавод-химеру!
Может, поэтому, когда ей перевалило на восьмой десяток,
бабушка перешла в старую веру.
Дева по гороскопу, я был удивлён,
узнав на деле не Дева, а уже свыкся,
астрономически, вышло, рождён подо Львом,
а в целом уже под каким-то сфинксом.
Сознанье двоит. Но не тем созвездием Близнецов,
не звёздными братьями Кастором и Поллуксом.
Тут Дева и Лев. А не всё ли равно в конце-то концов?
…Раз ночью из Кунцева в центр я шёл по улицам тусклым.
И, зеленоглазые, по-кошачьи подлащивались такси,
и кошки брызгали на столбы, вальяжны, как такси пополудни.
Вот тут-то, смешав свои звёзды, все беты, дзеты и кси,
явилось созвездие в виде, сперва решил, блудни.
У неё были волосы – как трансформатор, обмотки враздёрг,
а выраженье лица напоминало крупную дождевую каплю.
Она испугалась, будто это я её подстерёг
и сейчас изнасилую иль, на худой уж конец, ограблю.
Но столько чудного в ней было воплощено,
что вскоре я шёл на нею, как в ад (ну, вот ещё Данте))
в квартиру, где жил двухголовый уж, пятилапый щенок
и скворец, где и мебель была мутант на мутанте.
Ведь это не где-то пустыня Семипалатинская мертва.
Под каждый полом – ядерный полигон, лишь палас отвернёте.
Стоп! А на кой мне баба с мордою льва
и трехкрылым скворцом, летающим на манер вертолёта?
И на что мне её вставший пописать сын,
толстый, с модной причёской под свиристеля?
И к чему эта ночь в обществе змей и псин —
вот и матрац на полу расстелен.
Но всё было проще. На кухне мы пили чай,
индийский из Индии, как сказала она, «бывшемужнин»,
и я был полон печали к ней, и эта печаль
было всё, что я мог ей дать, и всё, что ей было нужно.
С ложечки сонного она поила скворца,
а мне было муторно, что, обданы радиоактивным душем,
мутируют наши органы и даже сердца,
но радостно, что, нематериальные, не мутируют души.
Что в городе, как в деревне, пускают переночевать.
Что в людях добро всё в том же, старомодном, раскрое.
Ночной этот чай, под утро едва лишь коричневат,
во мне растворил моё неприкаянство городское.
Она проводила меня, когда рассвет
сверкнул меж домов, как в зубах золотая фикса.
Бывает, вам долго-долго смотрят вслед,
но если в спину так смотрит кто-нибудь вроде сфинкса…
В то утро первее двух первых третье крыло
прорезалось у меня в спине. Сутулюсь
я лишь затем, чтобы удобней оно легло
и очень махало, когда брожу среди тусклых улиц.
Сознанье бесстыдно двоит. Опять и опять
я по ту и по эту сторону ширмы, неба в звёздах.
Поскольку крылу моему, как воздух, необходимо летать,
а чтобы летать, ему совершенно не нужен воздух.
«Лист оконного стекла в раме ветхой…»
Лист оконного стекла в раме ветхой
снизу пожелтел от брызг, треснул сбоку.
Рядом с трещиной, стуча, бьётся ветка,
словно меряясь в длину – всё без проку.
Зря ты маешься, побег мой заблудший.
В мае вытянешься, но перед маем
будут окна мыть – ляжет тут же
в пол-окна стрела сухая, прямая.
Как судьба тут всё смешала, подлюга.
Что-то в доме этом я неспокоен:
то ли ветку оттолкнул, то ли руку,
то ли трещину пустил, то ли корень.
Сдвинул шторину вбок, подвязал машинально тесёмкой.
Воскресенье. Зима. И весь день лишь в еде да спанье.
– Кактус! Ух ты! Цветёт!
За окошком позёмка
пронеслась холодком по спине.
Читать дальше