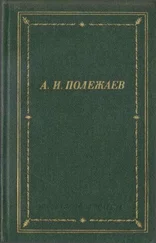По полю люпина
ступала корова – ну прям королевна!
А тучи уже тяжело, как лепнина,
висели над полем рельефно.
Не будь той коровы
(поди, уж её обыскались, вражину)
и я бы не встал за здорово
живёшь под сосну без вершины,
где, как в кинозале,
когда в темноте оборвёт кинопленку,
трах молния – зарево зарев! —
в меня и сосну, и бурёнку.
Те жёлтые токи
спаяли всех нас, всех троих воедино.
Я рвался из огненной тоги,
в чужие миры уводимый.
И вкруг меня плыли
мои возраста, будто скок из матрёшки,
и в первом, мохнатом от пыли,
я был босиком и в матроске.
И будто я клянчил
у мамы, но только безмолвней, безмолвней,
рисунок сосны – одуванчик
от понавтыкавшихся молний…
Очнулся. Трухлявость
в руках и ногах. Встал, свинцовоголовый.
Сосна от дождя отряхалась,
люпин поедала корова.
В том поле просторном
качаясь (корова качалась поодаль),
познал я родство не родство, но
какую-то сцепку с природой.
Что нет меня чисто,
как чисто людей не бывает в природе,
и смерть убивает – бесчинство? —
не насмерть, а только навроде.
Наверно, крамольней
не думал. Вернулся я, как из разведки,
к своим, где не ведают молний,
лишь пальцами лезут в розетки.
«Плывёт гроза, как Наутилус…»
Плывёт гроза, как Наутилус,
а у неё из-за плеча
сквозь облака к земле пробились
два крепких солнечных луча.
Ведь солнцу по колено,
что великану град и дождь!
Бредут морской прибойной пеной
оранжевые брюки клёш.
У ветра лёгкие ослабли,
а солнце дальше вброд и вброд
и за собою, как кораблик,
грозу на ниточке ведёт.
«Ты неизбежна, как солнце на детских рисунках…»
Ты неизбежна, как солнце на детских рисунках,
как Фудзияма на строгих картинах японцев,
как в сумрачный полдень,
пусть ливень стеною и сумрак,
всё то же смеётся за тучами яркое солнце.
Привыкнуть к тебе,
как к солнцу привыкли южане —
что есть несуразней, ведь как никакая другая,
ты так неизбежна, что, кажется, во избежанье,
разлуки с тобою
я встречи с тобой избегаю.
«И откуда взялась ты, цыганка моя смуглолицая…»
И откуда взялась ты, цыганка моя смуглолицая
с синим взглядом таким,
синим и сумасшедшим?
Ведь ещё, как известно, работники инквизиции
в Европе повывели всех необычных женщин.
Ой, как весело, вижу,
с ты с нашим братом расправишься,
маленькая ошибочка в средневековых реестрах!
Впрочем, порой одна запавшая клавиша
значит больше всего симфонического оркестра.
Когда рождается дитё
за тканью звёздных ширм,
то как хрустальное дутьё
рождается наш мир.
Какой красивый это труд —
рожденье звонких детств.
Я стеклодува стукну в грудь:
– Ну, парень, молодец!
«Как всё ещё летящий образ…»
Как всё ещё летящий образ
уже давно потухших звёзд,
ты вся была лишь хрупкий отблеск
своих былых надежд и грёз.
А я был полон пустозвонства,
когда споткнулся на лету,
как луч, отпрыгнувший от солнца,
и угодивший в пустоту.
Но друг от друга нам затеплить
свою звезду ещё был шанс,
и звёзды космоса ослепли
от светлоты объявшей нас!
Моё маленькое сверх-я,
твоё маленькое сверх-ты,
наше маленькое сверх-мы…
Разве думано, что
сверхчеловек —
нос кнопкой и фонтанчик волос надо лбом —
появится так,
вот так:
твоё маленькое сверх-я,
моё маленькое сверх-ты.
На белых досках сарая увеличительным стеклом
было выжжено «Рождение Венеры» Боттичелли.
А на сосне возле дома покачивалось под суком
кресло о трёх ножках – качели.
В солнечный полдень после дождя
сосна махала креслом, словно кадилом, а Венера рукой
прикрывалась и ёжилась полушутя: «Надо же, вот и дождичком
окатило!»
Читать дальше