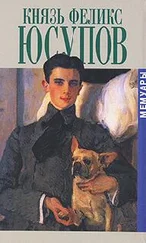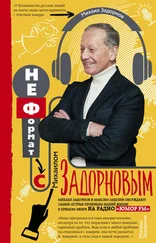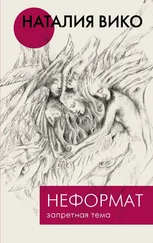Давай, чувак, дадим эмоциям
последний выход за черту
и, звёздным доверяясь лоциям,
пройдём по Млечному стриту.
я на шестом десятке
играю с миром в прятки
мое второе я
как малое дитя
оно неуловимо
мираж и струйка дыма
во тьме при свете дня
поймаете меня
и даже не мечтайте
я всюду и нигде
один в 6-й палате
и на сковороде
Давно пересохла, и снова
впадает, как в реку река,
горячая кровь молодого —
в холодную кровь старика.
И снова: пространство и время
сливаются — не отличишь.
И гнутся над Летой деревья
и шумно вздыхает камыш.
«Когда-нибудь» станет «когда-то…»
«Когда-нибудь» станет «когда-то»,
как станет ответом вопрос.
Холодное пламя заката
и золото детских волос.
Гляжу — не могу наглядеться,
завидуя, зависти без,
на рыжеволосое детство
на фоне закатных небес.
«Небо хмуро, но пуля — дура, —…»
Небо хмуро, но пуля — дура, —
и ненастье ей не указ.
Чтобы целой осталась шкура —
норовит попасть прямо в глаз.
Прямо в яблочко наливное,
в перезревшее, и давно,
сквозь сетчатку — во время боя,
обживая глазное дно.
«Верь не белому свету, но мраку —…»
«Верь не белому свету, но мраку —
мрак не предал ещё никого».
Говорил Одиссей Телемаку.
Сын заснул и не слышал его.
«Потому что мы вышли из мрака
и вернёмся обратно туда».
Крепко спит Телемак. Телемака
освещает звезда.
Беспросветную тьму,
что черна, будто кошка,
близко к сердцу приму, —
даже ближе немножко,
ближе некуда, и
в наказанье за это,
голубые мои —
стали серого цвета.
тили-тили
трали-вали
пропустили
все трамваи
желтый красный
голубой
мы напрасно
ждем с тобой
льют дожди
гниет картошка
и неделя до зимы
подожди
еще немножко
отдохнем и мы
антошка антошка
Поутру аистиха
пьёт ночную росу.
Оглушительно тихо
в подмосковном лесу.
воробьи и трясогузки
пели песни не по-русски
у могилы на виду
в мандариновом саду
у покойницы старухи
на груди лежали руки
выражение лица
в песню вслушивается
долго ли коротко ли
не пойму
молча текли
муравьи и во тьму
перетекали
бесшумным ручьём
жизнь как вначале
и смерть нипочём
«По старой армейской привычке…»
По старой армейской привычке:
за время горения спички, —
за сорок, как помнится, сек.
увидел я всех.
Припомнили, поговорили,
подрезали прошлому крылья,
и хлебного выпив вина —
смотрели на звезды со дна.
«И прежде чем переступить порог…»
И прежде чем переступить порог
и в дом войти — ты оглянись на осень,
и надышись листвой пожухлой впрок
и ветром, и дождя многоголосьем.
Усядься в кресло, трубку закури,
открой «Метаморфозы» Апулея,
и навсегда, минуя «раз-два-три»,
исчезни, ни о чём не сожалея.
играю на расчёске
рифмую на песке
а думаю о тоске
любви тире тоске
по той простой причине
что совмещаю я
трагедию пуччини
и лёгкость бытия
этому времени наплевать
смерть одного или тысяч
водку глушить молоко ли лакать
в грудь материнскую тычась
этому времени время придёт
бремя любви и свободы
преодолеет весенний приплод
околоплодные воды
пусть по-собачьи пока не беда
время придёт и для брасса
только бы красной не стала вода
околоплодного братства
наши крохотные души
выдыхают пузыри
разноцветные снаружи
бесполезные внутри
и как шарики цветные
улетают навсегда
обживать миры иные
да
«Когда устаканится, — то есть, —…»
Когда устаканится, — то есть, —
рассеется мрак и туман,
быть может, напишется повесть,
а может быть — даже роман.
Пустая затея, отсрочка,
убожество и божество…
Быть может — останется строчка,
а может быть и ничего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу