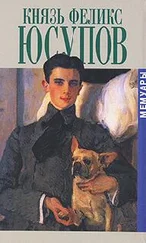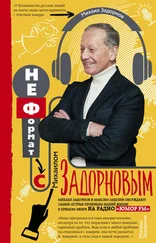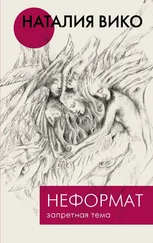Нам с вами по плечу
заоблачные дали!
Топчу, топчу, топчу,
пока не растоптали.
я оборвал на полу
молчала и молчи
из детства радиолу
поющую в ночи
цифирь пришла на смену
убогости былой
и попадает в вену
невидимой иглой
молчала не винила
не проклинала свет
лишь капелька винила
скатилась на паркет
«А снега ночное парение —…»
А снега ночное парение —
обычное волшебство,
но разные: угол и зрение,
и все многоточья его.
И, спавшая чутко, разбужена
и смотрит в окно, не дыша,
на неповторимое кружево
и тающее, как душа.
Воспоминания белы,
как облака над нами…
И запах досок и смолы
на старой пилораме
я вспоминаю вновь и вновь,
а не детали эти:
ужасный вопль, опилки, кровь
и палец на газете.
Хватит: о воде и вате, —
жизнь одна и смерть одна.
Слониками на серванте
пустота посрамлена.
Выстроились по ранжиру:
раз, два, три, четыре, пять…
Граду посланы и миру.
Улетать? Не улетать?
Улетели друг за другом —
гуси-лебеди мои, —
к африканским летним вьюгам,
к зимним пастбищам любви.
«Недодано? Более чем, —…»
Недодано? Более чем, —
скорее уже — передали.
И я навсегда обречен
любить, не вдаваясь в детали,
в подробности — коих не счесть, —
не вычесть из жизни и сердца.
И некуда деться, и есть,
как бомбоубежище — детство.
И хлебные крошки
собрав со стола,
по лунной дорожке
на небо ушла.
«Покуда в городской пыли…»
Покуда в городской пыли
дышал, как рыба, я,
прогнулось небо до земли
под тяжестью шмеля.
И от гудения его
июльский день оглох.
И ничего. И никого.
И шмель летит, как Бог.
«Когда рыдали над прыщами…»
Когда рыдали над прыщами
и слушали «Goodbye, My Love»,
мы брать преграды обещали,
обещанного не сдержав.
Да здравствуют петля и вена,
тоска и хлебное вино,
где погибают откровенно,
уже погибшие давно.
«— Не пей с Валерой, — говорил…»
— Не пей с Валерой, — говорил
мой друг Володя.
А сам, не зная меры пил,
в плену мелодий.
— Не пей с Володей, — говорил
мой друг Валера.
А сам в плену мелодий пил,
не зная меры.
И я не спорил с ними, но
пил с тем и с этим,
и, как закончилось вино,
сам не заметил.
И, как ушёл один, и как
второй в завязке…
А я остался в дураках
из доброй сказки:
полцарства пропил, и в живых
не числясь даже,
соображаю на троих
в ночном трельяже.
«За то, что пил не только квас —…»
За то, что пил не только квас —
спровадили его,
как Лермонтова на Кавказ
в бескрайнее ЗабВО.
Теперь, ты хоть залейся — пей
во сне и наяву:
вино тоски, абсент степей
и неба синеву.
«Небо было, — хоть убей —…»
Небо было, — хоть убей —
голубее, и
мы гоняли голубей,
а теперь чаи.
Зеленей была трава,
слёзы солоней…
Жизнь права и смерть права,
растворившись в ней.
Твоё в горошек платье,
мой клёш под пятьдесят,
как новые — в палате
мер и весов висят.
А мы с тобою — пепел
и нас развеял сын.
Конечно: мене, текел,
но вряд ли — упарсин.
Покуда жил, пока
жизнь представлялась длинной,
смотрел на рыбака,
стоящего над Пиной.
И принимал за клев
обманчивые ряби,
и ставил на любовь
и наступал на грабли.
На тополях, вот-вот
воспламенится вата
и не погаснет от
рассвета до заката.
И опадет листва,
и занеможет вьюга,
и мы, как дважды два,
найдем с тобой друг друга…
С тех пор прошли века,
невидимые глазу,
и больше рыбака
я не встречал ни разу.
Мой незнакомый друг, —
надежда и отрада,
ты удочку из рук
не выпускай, не надо.
Пусть удочки полет
над Пиной вечность длится,
и ветер в ней поет,
как на рассвете птица.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу