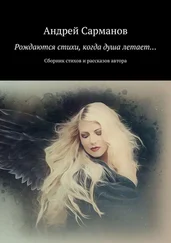В троллейбусе, где едет человек,
в нервозной толчее богов, на смену.
Бог — в кинескопе, в пачке сигарет,
в дождливой пелене осенней грусти,
бог в камфоре. Бог — свет и полусвет,
и мгла, и мрак. Исток реки и устье.
Бог — Селигерской пустыни монах,
бог — пьяница у винного лабаза.
Он (иль Оно) — могила, кости, прах,
и нефть, и алюминий, и алмазы.
Бог — избранный однажды президент,
и в то же время — урна избиркома.
Фантазия, эфирный клей «Момент»,
базедова болезнь и глаукома.
Бог — детский смех и форточка в окне,
откуда смех в квартиру долетает.
Он тот, кто позвонил сегодня мне…
Он (иль Она) — к кому спешу с цветами.
Бог — этот лист тетрадный, почерк мой,
бог — те, кто эту запись обнаружат.
Бог в том, что я дышу ещё, живой,
пью с богом и жую его на ужин.
Ты знаешь, брат, наш бог — земля,
где незабудок цвет, сквозь кости,
зашит в пшеничные поля,
разросшиеся на погосте.
Ты знаешь, брат, из наших рек,
в кисельном вареве рассвета,
рождался самый первый снег
и делал белою планету.
Вода и снег земля и хлеб…
И солнце падает в колодцы.
Ты знаешь, брат, что наша степь
над камнепадами смеётся.
И воет в колокол душа
молитвой длящегося лета,
и слова огненного шар
пылает жаждою рассвета!
И невский кряж, и волжский плёс…
И реки русские бездонны!
И даже наш притихший пёс
не то святой, не то влюблённый.
Ты знаешь, брат, нам не найти
себя на Западе и Юге.
Там незабудкам не цвести
под сиплый свист сибирской вьюги.
Там не прощаются навек,
расставшись лишь на полминуты…
Ты знаешь, брат, наш оберег
с чужим ковчегом перепутан.
И только память где-то там…
в уснувшей древности…не знаю…
как будто видит вечный храм
в костях разбитого сарая.
В молчаньи мегаполисы лежали,
как в полусне. Пощёчиной рассвет
краснел и обводил лучом скрижали
на пыльных стендах утренних газет.
Не знали…Распыление потока
наполненных сиянием частиц,
как миллион эпох, идёт с востока
на север лиц, на крайний север лиц.
Не знали, что за холодом и страхом
нет ничего. Фантастика добра
на нити рвёт последнюю рубаху…
И больше ничего. И вновь с утра,
как в полусне, ворочаются глыбы
осенних туч, в молчании лежат
дома, в которых ночь встречает гибель
от белых ран рассветного ножа.
Ты можешь жить, скажи мне от души,
вот в этой маске, с этими стихами,
один, среди сверкающих вершин,
куда не долетит твой лучший камень.
Ты можешь жить, скажи, с самим собой,
в пустой квартире, где гуляют тени
рассказчиков, а ты средь них — немой.
Скажи мне, как ты можешь жить в метели,
зарывшись в одеяло с головой.
Скажи, скажи, вдруг выживу и я,
и нас обоих вынесет земля,
не сбросив на асфальт с многоэтажки.
И будет ужин, хлопоты, семья,
прищепки на балконе для белья.
Скажи мне, почему тебе не страшно…
Не страшно каждый день переживать
вот в этой маске, с этим равнодушьем
чертить в тетради рифмы кружева,
изображая жизнь. Тебе не скушно?
Скажи, тебе не тошно без потерь,
без боли, без отчаяния, без мира,
где есть ключи и есть входная дверь,
но нет квартиры,
нет места, где ты мог бы умереть,
нет табуреток, чтоб на них поставить
сосновый гроб. Прошу тебя ответь,
чем залечить истерзанную память,
чтоб помнить самого себя не сметь.
Этапом из Ростова-на-Дону,
в бушлате от мордовских модельеров,
я пересёк кандальную страну
на решеченных рельсовых галерах.
С тех пор мне ненавистны поезда
ни класса «люкс», ни общего формата.
В их окнах мне мерещится звезда
Галактики Штыка и Автомата.
С тех пор мне ни о чём не говорят
две стороны одной узкоколейки.
И вся архитектура — лагеря,
вся мода — кирзачи и телогрейки.
И воют сосны, небо разодрав
своей исповедальностью колючей.
И нацарапан времени устав,
бессмысленный, безжалостный и сучий.
С тех пор мне ненавистен уговор
меж теми, кто сидит и кто сажает,
о том, что мера истине — забор —
под стражей содержащейся державе.
И льётся через ноздри, за края,
немая горечь страшной русской водки.
И мечется в отчаянной чечётке
неслышимая музыка моя.
Прошу тебя, прошу, не умирай.
Ты мёртвая любить меня не сможешь.
Там — темнота. А здесь бывает рай,
Читать дальше