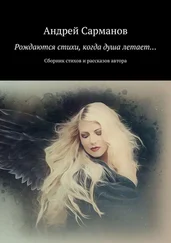когда рукой твоей касаюсь кожи.
Прошу, не умирай хотя бы так
бездарно — убеди свою актрису
безумно отплясать последний акт
и, хохоча, закутаться в кулисы
тяжёлые. Тяжёлое тебе
всегда казалось чем-то настоящим,
оправданным судьбой. И по судьбе
тебе не умереть. Остаться спящей.
Снова не в ноту, сбиваюсь, не в масть, не со всеми,
знаю, зарежут смычком в оркестровом строю.
Знаю, просверлят башке соловьиною трелью,
каркну — глухая ворона я — значит, пою.
Плохо пою, заикаюсь, хриплю, цепенею,
радуюсь и матерюсь, отчужденье кляня.
Песня моя ничего на земле не изменит,
но я пою, чтобы не изменили меня.
Я не помню, каким было прошлое лето,
проливались дожди или маялся свет.
Только тихо скрипела в орбите планета,
словно старая бричка в степной колее.
Я не знаю, зачем мы брели через годы
то ли в призрачный рай, то ли в яблочный сад.
От причалов пустых, уходя, пароходы
нам кричали вослед, словно звали назад.
И не вспомнить уже, чем закончилось детство,
были счастливы в нём, или по вечерам
напеваем теперь материнские песни,
что не пелись для нас, просто слышались нам.
Возвращаясь, пройти по разбитым ступеням
то ли вверх, то ли вниз — нет путей в пустоте.
И бескрайних вершин, тех, в которые верил,
не постичь, не дожить…Ни упасть, ни взлететь.
И владычества слов не принять по гражданству,
и в изгнании жить — как и должен поэт —
и смотреть, как сгорают в багряном убранстве
перелески от сорванных с неба комет.
Я не знаю, зачем нам грядущая осень…
Снова хлынут дожди, облетят тополя,
и как тысячи лет снова ржавою осью
будет бричка скрипеть и вращаться земля.
Ты, кареглазая, чёрная, рыжая, злая,
ладно — раскосая, белая, нежная, ты
будешь вот здесь.
Не моей, но со мной будешь, знаю
плач по любви — моментальной удавке.
Мечты.
Ты, бесконечная в формуле жидкого яда,
жизнь — это жижа, блуждание в талой воде.
Если отравишь, но ляжешь с отравленным рядом
просто лежать и курить…Усмехаясь, глядеть,
как вытекают из глаз ядовитые капли,
как зажигалки кремень высекает искру,
как на экране кривляется мученик Чаплин,
очень надеюсь,
что рядом с тобой не умру.
Выживу здесь. Ты затеешь ещё один покер
с джокером — нежными вздохами.
Искренность — ложь.
Ты, незнакомая…Всем чудакам одиноким
кажется, что ради них ты на свете живёшь.
Теперь люблю смотреть со стороны.
Теперь могу рассматривать детали:
коричневые родинки луны,
деревья в преждевременной опале,
уложенный в конверт тетрадный лист,
тень у окна двухкомнатной квартиры,
дорогу, лужи, пепельницу, жизнь
в глазах от рук отученной Багиры.
Теперь не нужно ждать когда придут
на точку встречи долгие минуты.
Часы теперь вне времени живут —
за гранью цифр, за видимостью суток.
И улицей вечерней проходя,
забившись в кокон вымокшей одежды,
я прячу от себя и от дождя
в разлуке нерастраченную нежность.
И вновь, и вновь смотрю со стороны
на важные житейские фрагменты —
на тополя, на родинки луны,
на окна, лужи, пепельницу, ленту
канала, на обман тревожных снов,
где промелькнула тень моей печали…
И прочный мир из холода и стали
в моей любви разрушиться готов.
Напролёт у стойки бара
стонет пьяная гитара.
Завитой на пальце локон
в папиросной пелене.
Ночь осела между стёкол
разливным вишнёвым соком.
Отбивая ритм жестоко,
молдаванка пляшет мне.
Напролёт у стойки бара
ноет пьяная гитара.
Каблуками — брызги стёкол,
словно искорки в вине.
Поцелуй пронзает током,
через палец завит локон,
отбивая ритм жестоко,
молдаванка пляшет мне.
Отбивая ритм жестоко
каблуками — брызги стёкол.
На бедре хмельной гитары
откололась скорлупа.
Врезав коготь в стойку бара,
кабальеро — бармен старый —
с молдаванкою на пару
вытанцовывает па.
Хнычет пьяная гитара,
меркнет свет у стойки бара,
ускользнул из пальцев локон,
серебрится день в окне…
Молдаванка одиноко
курит. Дым ползёт за окна.
Как же…Как она жестоко
отплясала душу мне.
Хорошо, я скажу тебе, что ещё есть в этом мире,
для чего стоит жить, для чего мы находимся здесь.
Для начала запомни: мы не до конца отомстили,
Читать дальше