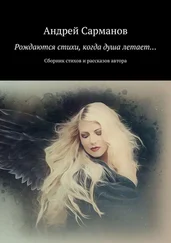если только догадлив ты, в чём заключается месть.
Я скажу, что игра, где за проигрыш платишь судьбою,
тем азартней, чем более сделано ставок на жизнь.
И от мира крупье носит финку для подлого боя,
значит, ты должен знать, как держать за подкладкой ножи.
Это всё, что здесь нужно для знаний. Дальнейшее — вера.
Просто верить…на Волге есть остров, где плачет камыш.
Не сдавайся, не бойся и бей, без сомнения, первым,
чтобы видеть, как солнце ложится на ржавчину крыш.
А ещё есть Гавана и жаркая Пристань скелетов,
есть сундук мертвеца и горячий коричневый ром.
Для серьёзных мужчин скорострельные есть пистолеты
и ещё чемоданы с двойным маскированным дном.
Есть священные духи костра у вигвама шамана
и молитвы друзей, что чуть раньше ушли в небеса…
Есть возможность не сгнить в поролоновой неге дивана.
А ещё есть закат и рассвет! Вот и все чудеса.
Это просто весна.
Показалось, что жизнь изменилась.
И наверное тысячи тысяч подумали то же,
и взмолились:
«Оттаявший боже, февраль уничтожен!» —
и в немытые окна смеялись, и спать не ложились.
Это просто весна. Потешать её рифмой нелепо.
Из подземных рубцов молоко ледяное течёт,
воскресают, как сказано в церкви, деревьев скелеты,
и бухгалтеры строчат квартальный отчёт.
Остальное (как веру в бессмертие) приняли люди
во спасение валенок, шуб и холщёвых штанов.
Но по крышам несётся растаявший студень,
расшибаясь о твердь не успевших растаять голов.
И целует весёлое солнце своих потерпевших,
поражённых из штуцеров ног нецелованных дев.
И весна в будуары маньяков ведёт свои СМЕРШи,
чтоб хотя бы один длинноногий спасти раритет.
И всё кажется, кажется, кажется чистым и свежим!
В этот час не случилось…Ну, что же — вся жизнь впереди.
Но проходит весна…и года…и всё реже и реже
появляются люди, с которыми мне по пути.
Глаза людей — пустые лисьи норы,
мазок Мане, Савёловский вокзал.
А я не знаю, есть ли этот город,
в котором отражаются глаза.
Я просыпаюсь в Тире Финикийском,
как хариус, очнувшийся в порту
Москва-реки, и солнце с края миски
льёт лето в рот, и золото во рту.
И дерево ситтим — отец акаций,
добрался до восьмого этажа
хрущёвского надгробия, где снятся
прабабушки московских парижан.
Я просыпаюсь, как преторианец,
под дверью председателя суда
С ножом в руке, и нож похож на палец,
направленный как будто в никуда.
В том «никуда» Юпитер и Юнона
с кошёлками бредут в универсам —
в храм Спаса — где пригоршней щебень трона
Минервы рассыпают по весам.
В том «никуда» нигде — конец дороги.
Четвёртый сын Иакова — банкир,
генпрокурор, родоначальник йоги
и муж Лакшми, с женой скуривший мир.
Я просыпаюсь, как глухой Агриппа,
изъеденный червями поздних дам
за то, что перерезал струны скрипке
и выпил звук, как прежде пил «Агдам».
Октябрь — цирюльник…выбритые парки,
обветренных бульваров полубокс…
Два месяца ещё прольётся жаркий
сок лета, раскалённый жёлтый смог.
Я буду просыпаться в лисьих норах
соседских глаз, по лестнице сходить
за смертью в безымянный этот город,
наколотый у жизни на груди.
Да сдохни ты, тебя увещевать!
Забей строфу маразмом пресс-релизов.
Любовь моя, божественная блядь,
поставь вот здесь губной помадой визу.
Вакцина от сегодняшнего дня —
ноктюрн на грязных клавишах ступеней.
Ты будешь задыхаться нотой «бля»,
бемолем соблазнённая к измене.
В изломе тени. Неба розмарин.
Лак для ногтей разлит по горизонту.
Тахикардией бьётся тамбурин
под рёбрами подъездной амазонки.
Ты бабочка под фраком фонаря.
Напейся из гранёного фиала
шартреза от сторчавшихся наяд.
Как, mother fuck, безбожны ритуалы.
До сдохни ты…Развёрнут эпилог
в презрении — что времени эпитет.
Я тоже подыхаю как бульдог,
разорванный агрессией событий.
И причащенье — пирсинг над губой,
мораль с порнографической развязкой,
мадонна — девка месяца Playboy,
молитвы — прозаические дрязги.
И сдохнешь ты у кухонной плиты.
И брошь твоя к яичнице прилипнет.
И я тебе в живот воткну цветы
с чужих могил. И высосу поллитру.
Я люблю тебя. Дай только мне дотянуться…
Сделать шаг — равнодушие, боль, наслажденье.
Я люблю. Помоги мне уснуть и проснуться
Читать дальше