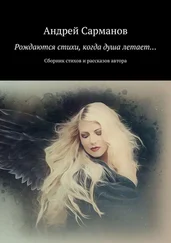густо-жёлтое льёт молоко.
Чёрных омутов жидкий квадрат,
я гляжу на него, как на бога,
что сейчас заберёт меня в ад
тёплой кухни — в жилую берлогу,
и уже не отпустит назад
на Никитский, во тьму, в полусад.
Наслаждаюсь последним глотком,
опускаю окурок в бутылку,
горько-жёлтое пью молоко,
в темноту упираясь затылком.
Темнота в пустоте, темнота —
город сжался до кухонной точки.
И Никитский — как мира черта,
за которой распустятся почки.
А с другой стороны — ни черта,
ни земли, ни деревьев, ни строчки.
В одиночке ночных миражей
тема времени выглядит пошло.
Мы безвременны здесь. И уже
жизнь вселенной уткнулась в подошву
на Арбате. Окно. Желтизна.
Воплощение страшного сна.
Никогда не наступит весна.
Я допью свои ржавые ночи,
обожгусь, разболится десна…
Да, я жил на Десне! Приходила весна,
точно так же на кухне горели глаза —
это я из окна видел мир, но сказать
ничего не умел. А теперь мне нельзя
говорить. Только пялиться в точку.
Они не верят… Я — христианин.
Мой грустный рай — метро после полудня,
в жару.
В толпе размазанный,
один
под поезда свои бросаю будни.
Смотрю, как их колёса волокут
от Сходненской до Иерусалима
туннелем тьмы, за несколько минут,
и пассажиры в сути — пилигримы.
Они не верят…
Я не верю им.
Колени, локти, мякоть прихожанок,
нательный крест.
Я — Иерусалим,
низвергнутый в подошвы горожанам.
Я пилигрим, мой грустный рай — метро
в преддверии обряда экзорцизма.
Уставший мир и всё вокруг старо,
беспомощно и скучно в жажде жизни.
Лишь будь собой и не о чём не думай,
всё будет так, как сбыться суждено.
Люби себя, изнашивай костюмы,
кури и пей креплёное вино.
Врачей уйми, не слушай убеждённых
в какой-нибудь теории одной.
Смотри, как за окном сгорают клёны,
как зверь грусти, пока ещё живой.
Накапливай, суши взрывчатку сердца,
взрывайся, не жалей своих потерь.
Собою будь, и даже после смерти
на бога не надейся, просто верь.
Ночь улицы летит над головой,
сорвались дни — мятущаяся стая.
Фонарь горит и я под ним, живой,
летаю.
Темно, темно и где-то у плеча
воркует голубь — адовая птица.
Я прижимаюсь к свету по ночам,
чтоб выжить, чтоб в себе не заблудиться.
Ночь улицы ветрами давит в плащ,
куда бы не шагнул — всё без исхода.
Многоэтажки позвоночный хрящ
гудроном крыши сросся с небосводом.
И я иду, забрав себя из дня,
бреду в ничто ночным ручьём излучин
на лампу людоеда-фонаря,
что для меня горит на всякий случай.
Так тихо в России…во сне ли, в раю
неслышно колышутся травы, вода
извилисто плавную ленту свою
в полях выстилает. Проходят года,
столетья, безвременье, тысячи лет
текут эти реки, чернеет камыш.
Оттуда, где нас ещё не было, нет
дороги туда, где не будет нас. Тишь.
Неслышье, дыханье, шуршание трав,
вся радуга сходится к белому, так
весь шум на Руси — тишина переправ
из рек в небеса. Набухающий мак
в рассветы прозрачные льёт молоко,
с росою смешавшись, пьянеет родник,
хохочет и вновь обретает покой,
разлившись рекой среди книг.
В этой мёртвой стране мою жизнь не признают искусством,
в этих розах поэт — хризантемы и гроба гибрид.
Над альтистом Даниловым страшно качается люстра,
но не люстрой, а глупостью будет Данилов убит.
Вера — это житейский раствор для бетономешалки.
Я не верую в график сквозного движения в рай.
Как живому, мне больше понятен юродивый сталкер,
чем свезённый на бойню в Свердловск сюзерен Николай.
В этом Доме культуры, где воздух окислен речами
дуайенов эстрады, где петь можно только в строю,
я проверил повторность явлений, и снова, ночами,
сочиняю и уличным псам сочиненья пою.
В этой глянцево-рыночной церкви крещёных марксистов
будет ересью всякое слово вне праздничных догм.
Праздник мёртвых. Я тихо скорблю. На лице моём чисто.
Только жаль, что лицо рассмотреть моё можно с трудом.
Одиночество — точка в пустыне себя самого,
ледяное бездушье на полюсе комнатной стужи.
Я брожу по квартире между деревянных снегов,
и зелёные зимы московских бульваров снаружи.
Одиночество — сумма одержанных в жизни побед,
чашка чёрного чая равняется уровню моря.
Читать дальше