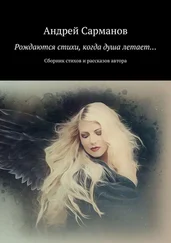к надгробию сгоревшей эскадрильи.
Мы ангелы… Игла, благослови
запиленную до смерти пластинку.
Пусть отобьют по уличной любви
тяжелые гитарные поминки.
Согревая настольною лампой
Согревая настольною лампой
тишину однокомнатной ночи,
что сквозь шторы и дым сигаретный
просочилась и в пальцах легла,
ты как тень на невидимых лапах,
ты как время в сосуде песочном,
обитаешь на кончиках лета,
на последних улыбках тепла.
В этом прямоугольном проекте,
где дыхание хрипло и черно,
где корабль разбитый веками
репродукцией в стенах повис,
ты как радость немедленной смерти,
ты как ангелом посланный ворон,
мою душу своими руками
отправляешь дышать на карниз.
И тогда в однокомнатной келье,
где листвою усыпаны камни,
безымянные камни, как будто
в них надгробия прожитых дней,
ты садишься за стол и веселье,
по столу карнавалом бесславным,
громыхает стеклянной посудой
на пиру обреченных теней!
Мы увядаем. Осень на губах.
Чернеет небосвод. Темнеет зелень.
Как пастыри садятся облака
на ледяную ткань твоей постели.
Ты шепчешь этим ангелам зимы
о недожитом дне, о тех тропинках,
где осенью такой же ждали мы
хотя б одной единственной снежинки.
Согреют облака твою кровать,
сотрут в окне навьюженные фрески,
останутся с тобою зимовать,
чтоб напевать полуночную песню.
Я иду, со мною осень
тянет горький шлейф стихов.
На деревьях снова проседь
отсыревших облаков.
Над ступенями причала
бьется ветер в крыльях птиц,
танцовщицей одичалой,
в тусклом отблеске зарниц.
Так случается в дождливой
бесконечной пелене,
что склонившаяся ива
плачет только обо мне.
И прозрачные потеки
на стекле пустой строки,
оставляют одиноким
одинокие стихи.
Когда море, сверкая планктоном, обходит заливы
и сливается с небом — в той дымке рождаются души.
Море плачет ветвями октябрьской плачущей ивы
и вот так, уходя из-под ног, превращается в сушу.
И вот так протекает печаль уходящего лета -
море мыслей и чувств остывает, и хочется верить,
что растают снега, прежде чем догорит сигарета,
и привидятся вновь океаны за кухонной дверью.
Я видел тех, кто видел бога.
Я видел их в монастырях,
в пивных, в лечебницах, в острогах,
везде — где жизнь проходит зря.
Везде, где мир лишён метанья,
где одиночество и страх,
я видел искры мироздания
в живых затравленных глазах.
Я видел и не смог ослепнуть.
Как все, простые, я бродил
из дома в дом — от склепа к склепу,
в своем гробу среди могил.
И находил одно и то же:
игру ничтожества с огнём.
И сам бессмысленно ничтожный,
не веря в бога, пел о нём.
Роди меня, роди меня еще
хотя бы раз, чтоб я успел вцепиться
в набухшие соски твоих трущоб,
где пыль и кровь. — Роди меня, столица!
Я верю в бога, верю из любви
к той мрачной поэтической идее,
которая о смерти говорит,
как будто о последнем пробужденьи.
Роди меня, роди меня опять
меж Трубной и Рождественским бульваром,
где я на лавку лягу умирать,
природу оскверняя перегаром.
Не хватит зла, слова сорвутся в хрип,
наперсток неба выльется на лацкан,
исписанный надрывным матом лифт
обрушится в Аид могилы братской.
Я не успею вылечить невроз,
привитый бытом в местном халифате.
роди меня, роди меня из слез,
запекшихся на Бронзовом солдате.
роди меня от рухнувших церквей,
от идолов, от красных комиссаров,
чьи призраки, шатаясь по Москве,
царапали плащами тротуары.
Я верю в бога, верю вопреки
той пьеске в подражание Мольеру,
где впавшие в безбожье старики
религией насиловали веру.
Роди меня, мне мало прошлых лет,
мне не хватило разума в безумье,
мой некозырный выбитый валет
и суток счастья не набрал бы в сумме.
Забудем, как я падал на газон,
сломав цветы, пробившиеся к солнцу.
Роди меня, роди меня в сезон
осыпавшихся с явора червонцев.
За листья эти буду бить хрусталь
подсвечников на Шаболовской башне!
Роди меня, столичная печаль,
роди меня не завтрашним, — вчерашним.
На Никитской аллее темно,
ни луны, на кошачьего глаза.
Лишь в подошве Арбата окно,
далеко, в черноте, далеко
дребезжит электрическим газом,
Читать дальше