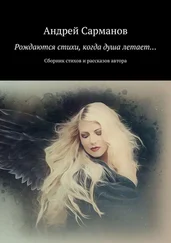Поэт сидит в тюрьме. Тюрьма сидит в поэте.
Он по уши в дерьме, он хуже всех на свете.
Он вроде бы убил, а может быть, ограбил.
Ах, до чего любил играть он против правил.
И лето, и зима проходят мимо кассы.
А в нем самом тюрьма и неизбывный карцер.
И не помрешь во сне, и заднего не врубишь.
Над шконкой на стене — портрет Татьяны Друбич.
За эту чепуху,
за девочку за эту
прости как на духу все косяки поэту.
А.С. 06.08.10
Это мой океан. Я, рожденный в холодных теченьях,
ледниковою рыбой стою у парадного входа
в саркофаг бытия, где из всех вариантов прочтений
Книги Жизни — мне врежутся в память лишь детские годы.
Отслоятся листами стихи, словно мертвая кожа
древних ящеров, бивших хвостами в станок Гуттенберга.
И когда я взлечу, то пойму, что полет не возможен
из-за крайней полярности рвущихся в сердце энергий.
И когда я качнусь, уцепившись ногтями за вечер,
утянув за собой небосвода измятую простынь,
мне откроется пропасть бессмысленных дел человечьих,
словно вклеенный в книгу Иова аляпистый постер.
Будет гнев — затаившийся блеск восклицательных знаков,
превращенных в штыки для ведения ближнего боя.
И на выставке язв в галереях тифозных бараков
победит расписавший вселенную собственной кровью.
Это мой океан, я оставлю ему завещанье
в золотой чешуе новорожденной дочери-рыбы.
Но пока я стою у парадного входа с вещами
и смотрю, как ушедшие первыми встретили гибель.
Это древнегерманское племя сикамбров на Рейне,
истребленное метлами дворников Римского папы,
вдохновило безумием гений разумного Гейне
на зачатие мира в лицейской тетради арапа.
Это он, синеглазый цветок абиссинских эмиров,
выткал русскую библию вязью посмертных видений.
И апостол его — тот, которого выбил Мартынов,
и его откровение — вспоротый в морге Есенин.
Там ли мой океан? Мне хотелось бы жить в Кишиневе,
под зеленою лампой, шутя, сочинять эпиграммы
на вульгарных богов, чьи богини торгуют любовью
возле пьяцца Сан-Марко, где в обморок падают фавны.
Там ли тина моя, там ли гнезда бирманских рубинов,
что — как все неживое — явились от кончиков пальцев
обреченных поэтов, замысливших явку с повинной
приучить к адюльтеру с отчаянным воплем скитальца.
Но опять победит расписавший вселенную матом.
Станут гнев и любовь просто кадрами камеры «Кодак».
И по вечности слов сиротливо протащится атом,
превращающий пьяную кровь в минеральную воду.
Если в этой воде суждено мне открыть океаны
беспредельной любви и вулканы кипящего гнева,
я готов умереть у парадного входа в нирвану,
чтобы с первым похмельным стаканом вернуться на землю.
И взлететь, и опять осознать, что полет не искусство,
а прыжок из окна — драматурга почетное хобби,
выстрел в собственный глаз, обостряющий прочие чувства,
о которых мы ведали, плавая в женской утробе.
И качнуть элерон плавника, уповая на ветер,
на мгновение гневом замедлить период паденья,
и увидеть — за миг до того — наступление смерти
от любви — в череде незамеченных жизнью рождений.
Благослови нас, вечное Ничто,
на переулках нашей русской майи,
где лотоса бетонного бутон,
забитый в папиросу, полыхает.
Мы ангелы, сошедшие с ума
в панк-роке бирюлевского надрыва,
с которым наш трясущийся браман
совокуплял разбавленное пиво.
Мы улыбались, делая надрез
на горле дурно кончившихся суток.
и превращали в диких поэтесс
неряшливых домашних проституток.
Точи, точи, скрипач, свою струну,
как финский нож на комендантский шлягер.
Мы бабочки, начавшие войну
из выдавленной гусеничной Праги.
И марцефалью быта не сломить
нуворишей свинцового кастета,
в наследство получивших право жить
не дольше, чем истлеет сигарета.
Расстроенный гитарами рассвет,
дрожа, суется в солнечную петлю.
И наша радость — лагерный сонет
в периметре шести тетрадных клеток.
Точи, точи, басист, свою струну,
похожую на жгут кровавой марли.
Мы краски, расписавшие страну,
известную как православный Гарлем.
И в том, к чему приложен протокол
ингредиентов нравственного супа –
ни слова о бойцах подпольных школ.
И на бульварах мокнут наши трупы.
Мы ангелы, уставшие волочь
по тротуарам сломанные крылья,
подвязанные липкой лентой «скотч»
Читать дальше