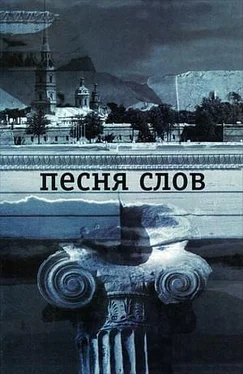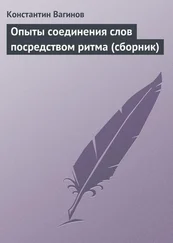У женщины есть нежные пушистые крылья –
Это – ее розовые, как бутоны, бедра,
Где прячутся неземные ароматы, как эскадрилья
Готовая вылететь во всякое время бодро.
Когда женщина идет покачиваясь в изящных ботинках
Разве это не крепость, которая сама себя предлагает
А ее корсет разве не корзинка,
Где груди, как фрукты взоры ласкают?
Девочки, девушки, женщины вы не великолепный инструмент
Вы не сосуд Диавола или Бога,
А просто ресторанный счет или документ,
Где каждый из нас расписывается понемногу.
Нерон! Нерон, я один тебя понимаю –
Разве здоровый тебя поймет?!
У тебя душа нежная как травка в мае,
Все же думают, что ты идиот.
Им нет дела до твоих мучений,
Думают: – «Это, так, дурачится человек»,
И не видят в тебе поэта или гения,
Не воздвигнут тебе одну из Мекк.
Ты же считал себя великим богом
Ты был выше других людей,
Ты блуждал по всем дорогам
И становился печальней и злей.
Ты ведь знал, что после ароматов,
Так приятно кого-нибудь убить!
И сменив пурпур на хитон измятый
По улицам с дубинкой бродить.
А женщины они так надоели
И ты сменил их на мужчин
И, когда звезды загорелись,
Ты думал: «Добродетель – признак низин».
И ты падал все ниже и ниже,
А думал: «Я взлечу высоко!»
И упал как клоун рыжий,
Как какой-нибудь жалкий Коко…
Среди беловатого, липкого тумана,
Между каменными ящиками и мутной рекой
Сфинксы казались зловещим обманом,
Порожденным больной и странной тоской.
На них не смеются блики восхода
И не рыдает пурпурный закат –
К ним тянется дровяная колода
И предъявляет последний мат.
Она хочет закрыть их тело,
Замуровать их огромной деревян<���ной> стеной,
Чтоб взгляд от сочувствия млелый
Не мог дать им ласки никакой.
И вот замурованные рекой и дровами
Сфинксы погружены в звонкую тишину
И, тронувшись их скорбью и немыми слезами,
Изида выдвигает из-за облаков луну.
Влажная луна появилась над Венецией.
Бледно-лимонная луна закачалась в ее водах.
Напрасно она употребляла всевозможные специи, –
Ей не вернуть утраченные и милые года,
Ведь она встает над огромным трупом,
Ведь она светит червякам в мертвеце.
Ведь она видит, как ходят с лупой
Бледные люди с печалью на лице.
Ведь она знает, что все погибло,
Что нет пурпура и драгоценных камней…
И только в море, как в месте гиблом,
Хранятся золотые кольца дожей.
О Венеция! Моя грустная подруга,
Плачет горько увядшая луна,
Нет теперь у нас ни любовника ни друга
Скоро окутает саваном тишина.
И только в шкафу у какого-нибудь синьора
Будут храниться твои ткани и жемчуга
И, скрытая от чуждых, холодных взоров,
Воплотясь в них ты переживешь века.
При красной лампе кого-то убивали,
При красной лампе кто-то плакал.
Кокотки душу всю раздевали
И где-то скорбно браслетик звякал.
Кокотки душу совсем раздели.
Какое дело всем до кокотки?!
Глаза кокотки от слез горели
Звучали в голосе печали нотки.
А зритель в зале смеялся шумно –
Он был далек от жизни сцены,
И хохотали весьма бравурно
Портьеры залы до белой пены.
Они смотрели, они внимали,
Они читали во взглядах мумий,
Что им не надо, ни вакханалий,
Ни нежной страсти и раздумий.
Какое дело им до кокотки?
Они пришли, чтобы развлечься
И смехом громким и коротким
Сказать кокотке: «Прошу раздеться!»
Душа кокотки на все согласна,
Она разделась до боли странной.
При свете томном, при свете красном
Все смотрит ласковым обманом.
И зритель в креслах весьма удобных
Смакует гордо кокотки душу –
Она как хлебец румяный, сдобный
Его покоя – не нарушит!
«Нового! Ради Бога нового!..» *
Нового! Ради Бога нового!
Жгите старое хотя бы и хорошее!
После бдений и поста сурового
Так хочется всего на него непохожего.
После проклятий и бого-хулений
Хочется жечь кому-то фимиамы
И с учетверенным рвением
Воздвигать пьедесталы и храмы.
Читать дальше