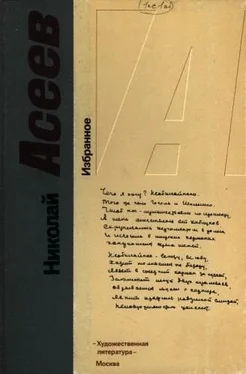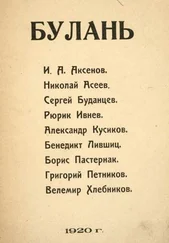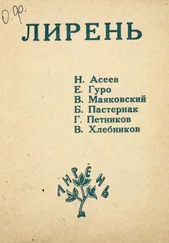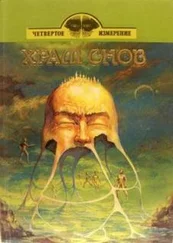1927
На Василии Кесарийском –
орлы с коронами.
Первый дом –
украшает славянская вязь…
Долго ль быть нам еще
стариной покоренными,
тупиками сознаний
в былое кривясь?..
«Так получается»
Я писал стихи
об орлиных крылах,
о змеиных расщепах
двухглавых голов,
и кой-где
понагнали
стихи мои страх,
и кой-где
поснимали
орлов с куполов.
Мне гордиться строчкой
на ум взбрело;
но не тем,
что ей –
прозвенеть в века, –
я гордился ею,
как первой стрелой,
угодившей в цель,
гордился дикарь.
Я ходил и думал:
остри свой стих!
Значит, он
попадает в точку,
туда,
где орлиный клекот
шипит и свистит,
где стервятников
вьются и реют
стада.
Но какая цена мне –
сам посуди,
и какая
стихам моим будет цена,
если
вон он
на Спасской башне сидит,
где куранты бьют
«Интернационал»!
Он еще обновлен
на десятом году
и блестит
позолотой
на высоте…
Если нынче
в него я не попаду –
нет и не было толку
от наших затей.
Мне ответят,
что это –
пустая буза,
никого, мол,
не тронет он,
в небе блестя;
что не дело целить
в такого туза
над страною
рабочих и крестьян;
и немало
других
неотложных дел,
чтоб из пушки
грохать по воробью;
что реликвией древности
он взлетел
и что рифмой его –
все равно не собью.
Нет, детки!
Это вы не метки,
целитесь впустую –
в синь густую.
Будет глаз мой щуриться,
силы не щадя,
по московским улицам
и по площадям.
Будет стих мой целиться
и звенеть стрела
всюду, где расстелются
мертвые крыла.
Надо расстараться
в далях увидать –
нет ли реставрации
где-нибудь следа.
Надо выжечь с корнем,
до малейших йот
этот древний горний
мертвенный полет.
Ибо –
что такое
фетиш?
Стань,
подумай
и ответишь.
Иду,
иду
по Москве дикарем,
и ты меня
не кори:
священною пляской
не покорен,
родные мои
дикари.
Иду,
чтоб меткость не умерла,
и рифму
мечу стрелой.
Я буду целиться
по орлам
и бить их
в грудь
под крыло!
1928
1924–1934
Не враг я тебе, не враг!
Мне даже подумать страх,
Что, к ветру речей строга,
Ты видишь во мне врага.
За этот высокий рост,
За этот суровый рот,
За то, что душа пряма
Твоя, как и ты сама,
За то, что верна рука,
Что речь глуха и легка,
Что там, где и надо б желчь,
Стихов твоих сот тяжел.
За страшную жизнь твою,
За жизнь в ледяном краю,
Где смешаны блеск и мрак,
Не враг я тебе, не враг.
18 апреля 1924
Если день смерк,
если звук смолк,
всё же бегут вверх
соки сосновых смол.
С горем наперевес,
горло бедой сжав,
фабрик и деревень
заговори, шаг:
«Тяжек и глух гроб,
скован и смыт смех,
низко пригнуть смогло
горе к земле всех!
Если умолк один,
даже и самый живой,
тысячами родин,
жизнь, отмсти за него!»
С горем наперевес,
зубы бедой сжав,
фабрик и деревень
ширься, гуди, шаг:
«Стой, спекулянт-смерть,
хриплый твой вой лжив,
нашего дня не сметь
трогать: он весь жив!
Ближе плечом к плечу, –
нищей ли широте,
пасынкам ли лачуг
жаться, осиротев?!»
С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, тугой шаг:
«Станем на караул,
чтоб не взошли враги
на самую
дорогую
из наших могил!
Если день смерк,
если смех смолк,
слушайте ход вверх
жизнью гонимых смол!»
С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, сплошной шаг!
1924
Бабахнет
весенняя пушка
с улиц,
завертится
солнечное ядро;
большую
блистающую
сосулю
бросает
в весеннюю грусть и дрожь.
По каплям
разбрызгивается холод,
по каплям
распластывается тень;
уже мостовая
свежо и голо
цветет,
от снега осиротев.
Вот так бы
и нам,
весенним людишкам,
под гром и грохот
летучих лучей
скатиться
по легким
сквозным ледышкам
в весенний
пенный,
льюнный ручей.
Ударил в сердце
горячий гром бы,
и радостью
новых,
свежих времен,
вертушкой
горячей солнечной бомбы
конец зимы
чтоб был заклеймен!
Читать дальше